

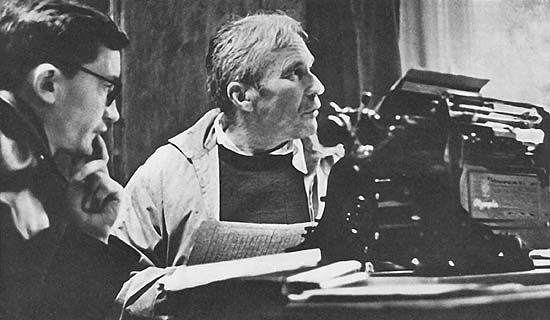
Мне всегда хотелось понять, как Андрей Николаевич переходил от одной темы к другой: занятия разными предметами прихотливо сменялись у него непредсказуемым,
Для себя я построил некоторую теорию происхождения работ об инвариантных торах: она начиналась с занятий Андрея Николаевича турбулентностью. В известной статье Ландау
Переход от торов Ландау к динамическим системам на торе был бы вполне естественным ходом мысли. В конце концов я почти поверил в свою теорию и (в
Дело было так. Андрей Николаевич ввёл в это время на механико-математическом факультете МГУ математический практикум и подбирал для него задачи. В числе задач он выбрал исследование движения тяжёлой точки по симметричному относительно вертикальной оси тору. Это вполне интегрируемая гамильтонова система с двумя степенями свободы, и движение в ней происходит, как правило, по двумерным торам в фазовом пространстве. Эти торы условно периодически обматываются траекториями: угловые координаты на них можно выбрать так, что они будут при движении фазовой точки меняться равномерно.
В то время теория интегрируемых гамильтоновых систем не была, как сейчас, модной областью математики. Считалось, что это безнадёжно устарелая, отжившая и чисто формальная область аналитической механики. Заниматься подобной «неактуальной тематикой» считалось предосудительной для математика уступкой давлению внешних обстоятельств (предполагалось, что математики должны складывать простые числа, обобщать интегралы Лебега, исследовать непрерывные, но не дифференцируемые группы)2. Андрей Николаевич, посмеиваясь, говорил, что французы пишут «Небесная механика» с прописной буквы, а «прикладная» со строчной. И всегда с некоторым презрением относился ко всем видам «математического империализма» независимо от его источника (будь то Бурбаки или МИАН).
Итак, Андрей Николаевич заметил, что в «интегрируемых» задачах математического практикума надлежащим образом определённые фазы на торе меняются со временем равномерно. Он сразу же поставил себе вопрос: так ли это, если система на торе не интегрируема, а лишь имеет интегральный инвариант (сохраняет меру с положительной аналитической плотностью)? Этот вопрос он решил в заметке
Замечание о перемешивании, относящееся к патологическому (встречающемуся бесконечно редко) случаю, не кажется особенно важным. Но именно
Рассуждения Андрея Николаевича (упомянутые им в докладе на Международном математическом конгрессе в Амстердаме в
В интегрируемых системах движение по инвариантным торам всегда условно периодично (можно ввести равномерно вращающиеся со временем фазы). Следовательно, перемешивание в интегрируемых системах не встречается. Чтобы узнать, имеет ли открытое им явление механические приложения, Андрей Николаевич решил отыскать движения по торам в неинтегрируемых системах, где в принципе перемешивание могло бы наблюдаться.
Но как найти инвариантный тор в фазовом пространстве неинтегрируемой системы? Естественно начать с теории возмущений, рассмотрев систему, близкую к интегрируемой. Различные варианты теории возмущений многократно обсуждались в небесной механике, а потом — в ранней квантовой механике 3.
Но все эти теории возмущений приводят к расходящимся рядам. Андрей Николаевич понял, что расходимость можно преодолеть, если вместо разложений по степеням малого параметра использовать метод Ньютона в функциональном пространстве (о котором он незадолго до того прочёл в статье Л. В. Канторовича «Функциональный анализ и прикладная математика» в «Успехах математических наук»).
Таким образом, «метод ускоренной сходимости» Колмогорова был придуман вовсе не ради тех замечательных приложений в классических проблемах механики, к которым он приводит, а ради исследования возможности реализации специальной теоретико-множественной патологии в системах на двумерном торе (перемешивания).
Поставленную им себе задачу о реализации перемешивания на слабо возмущённых инвариантных торах Андрей Николаевич при этом не решил, так как на найденных им торах его метод автоматически строит равномерно меняющиеся при движении фазовой точки угловые координаты. Вопрос о перемешивании, из которого выросла вся работа Андрея Николаевича, насколько я знаю, остаётся нерешённым и сегодня.
Значение этого технического вопроса по сравнению с полученными результатами ничтожно. Сейчас о нём никто уже и не вспоминает. Физики говорят (я слышал это от М. А. Леонтовича), что новая физика чаще всего начинается с уточнения последнего десятичного знака. Новая математика, как мы только что видели, тоже может рождаться при уточнении мелких технических деталей предшествующих работ. Уже из этого ясно, что планирование фундаментальных исследований — бюрократическая бессмыслица (и чаще всего обман).
Хотя сам Андрей Николаевич считал основной причиной своей работы надежды, появившиеся в
Повторяя сказанное Ходасевичем о Горьком, можно сказать об Андрее Николаевиче, что он был одновременно и одним из самых упрямых, и одним из самых нестойких людей.
«Когда-нибудь я Вам всё объясню», — говорил мне Андрей Николаевич, совершая
Андрей Николаевич говорил, что никогда не мог с полным напряжением интенсивно думать о математической проблеме более двух недель. И считал, что любое разовое открытие можно изложить на четырёх страницах заметки в «Докладах», «потому что человеческий мозг не способен разом создать
В развитии каждой области науки можно различить три стадии. Первая — пионерская, это прорыв в новую область, яркое и обычно неожиданное открытие, часто опровергающее сложившиеся представления. Затем следует техническая стадия — длительная и трудоёмкая. Теория обрастает деталями, становится труднодоступной и громоздкой, но зато охватывает всё большее число приложений. Наконец, в третьей стадии появляется новый, более общий взгляд на проблему и на её связи с другими,
Для математических работ Андрея Николаевича характерно то, что он явился пионером и первооткрывателем во многих областях, решая порой двухсотлетние проблемы. Технической работы по обобщению построенной теории Андрей Николаевич старался избегать (он говорил, между прочим, что на этой стадии особенно преуспевают евреи, скорее с восхищением, поскольку свое инстинктивное отвращение к этому виду деятельности Андрей Николаевич воспринимал как недостаток 4). Зато на третьей стадии, где надо осмыслить полученные результаты и увидеть новые пути, на стадии создания фундаментальных обобщающих теорий Андрею Николаевичу принадлежат замечательные достижения.
Пример неожиданного прорыва Андрея Николаевича в новую область — его топологические работы, опубликованные в четырёх заметках в «Comptes Rendus» и доложенные на Московской топологической конференции
По-видимому, все сведения о развитии топологии после
Но у Андрея Николаевича были на всё свои готовые точки зрения. Например, он говорил мне, что спектральные последовательности содержатся в казанской работе Павла Сергеевича Александрова. И что после шестидесяти лет заниматься математикой не следует (этот вывод, видимо, основывался на опыте общения с математиками предшествующих поколений). Так что мои попытки объяснить Андрею Николаевичу гомотопическую топологию окончились так же неудачно, как и обучить его кататься на велосипеде и поставить его на водные лыжи. Андрей Николаевич мечтал после шестидесяти лет пойти в бакенщики и задолго пытался подобрать себе подходящий участок на Волге. Но когда подошло время, бакенщики уже перешли с гребных лодок на ненавистные Андрею Николаевичу моторки, и проект пришлось оставить. Так Андрей Николаевич решил вернуться к профессии школьного учителя, с которой он

 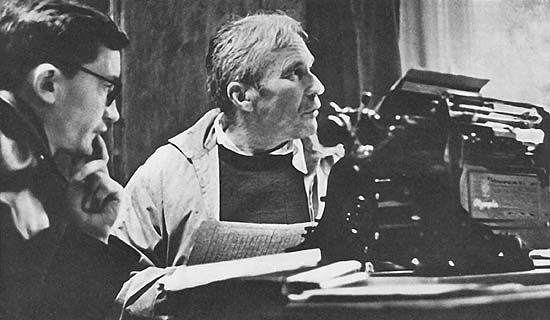
|
Последняя математическая работа, о которой мне рассказывал Андрей Николаевич (вероятно, в
В конце концов так и оказалось (в первоначальных оценках Андрея Николаевича были лишние логарифмы, окончательный результат без логарифмов — совместный с Барздинем).
Конечно, Андрей Николаевич прекрасно понимал, что к устройству биологического мозга его теоремы имеют мало отношения, и поэтому в статье о мозге не упоминается. Но источником всей теории на самом деле были всё же размышления о сером и белом веществе. Интересно отметить, что эта работа, быть может, вследствие слишком серьёзного, математического изложения осталась малоизвестной даже специалистам. Когда я упомянул о ней в посвящённой Андрею Николаевичу статье в «Physics Today» (октябрь 1989), на меня сразу же посыпались письма от американских инженеров, видимо, занимающихся миниатюризацией компьютеров, с просьбой указать точную ссылку на работу Андрея Николаевича.
Недавно я побывал в горах под Марселем и снова обошёл каланки — замечательную систему фьордов в полукилометровом отвесном обрыве приморских Альп. Это место мне указал Андрей Николаевич в
Разговаривать с Андреем Николаевичем всегда было очень интересно, и я жалею, что не записывал его рассказов. К счастью, остались письма. Несколько отрывков, приведённых ниже, дают, мне кажется, довольно отчётливое представление об их авторе и его мироощущении.
«... Был очень рад получить Ваше письмо от
а) в Бетанию — недалеко от Тбилиси, где в лесу было возле остатков снега множество весенних цветов (обычных наших голубых подснежников, маленьких цикламенов, крокусов, ранних ирисов). Целью, впрочем, была
б) в Кинцвисси — недалеко от Гори на склонах Триалетского хребта, где имеется действительно замечательная роспись
Вам же кататься на лыжах полагается на пасхе (т.е. в течение двух недель с
Я не хочу злословить по поводу **, но и не хочу защищать его от Вашего предположения на счёт его способности считать интересными лишь области математики, которыми он сам интересуется, или хотя бы владеет. Но за себя я хочу несколько защититься. Я сейчас неизбежно очень занят тем, чтобы успеть сделать всё то, что ещё мне осталось сделать самому, а планы у меня довольно большие и разнообразные. Поэтому я несколько скуп на усилия по изучению вещей, в которых не предполагаю проявлять свою собственную активность, а иногда даже на более лёгкие усилия, требующиеся, например, для того, чтобы с пониманием слушать обзорные доклады (или, скажем, Ваши объяснения). У моих молодых друзей здесь часто бывает непонимание неизбежных возрастных отличий, такое же как при желании научить меня непременно кататься на велосипеде или на водных лыжах.
Но склонности отрицать объективный интерес и значительность новых направлений, возникающей из такого самоограничения, я за собой не наблюдаю. Иногда я воздерживаюсь от суждения, иногда даже активно поддерживаю и рекомендую для изучения молодым вещи, которые по общему впечатлению кажутся мне значительными и перспективными, хоть и выходящими за пределы моего собственного репертуара. Если же я более активно и темпераментно защищаю значительность направлений, которые ценю в силу знания их структуры (иногда скрытой от пассивно читающих готовые работы) и перспективы, то это мне кажется понятным и законным. Таковы наши «малые знаменатели» и многое другое.
Передайте от меня особенный привет Лерэ, его жене и детям. У меня с ним тоже складывались более непринуждённые и личные отношения, чем с другими французскими математиками. Впрочем, так было со Шварцем и в другом роде с Фаваром, а из людей сравнительно незаметных, с А. Ренье (теория вероятностей и статистика с инженерными и физическими применениями). Я был бы рад получить материалы, которые помогли бы мне написать содержательный некролог о Фаваре. Математические его работы я достаточно знаю, но недостаточно его педагогическую и общественную деятельность и личную биографию. И то и другое достаточно интересно (включая активную помощь испанским эмигрантам и, вообще, самые неожиданные для математика виды деятельности)...
Заключительная фраза с поправками... (раскаиваюсь) казнюсь, что Вас (обижал) огорчал... мне очень нравится. Вторая поправка безусловно правильна, так как «обидеть» меня не так легко. Замена «раскаиваюсь» на «казнюсь», видимо, означает, что раскаиваться в
«... Только сейчас собрался отвечать на Ваше письмо от
Я действительно довольно много наблюдал мнения и нравы самых различных кругов во Франции и других странах, но
Фреше я непременно напишу. Но пока всё нахожусь в крайнем цейтноте. Я ещё глубже впутался в школьные дела: в рядовой школе в Болшеве с одной сотрудницей мы пробуем преподавать начала дифференциального исчисления в девятом классе и там же вводить элементы теории множеств (в теме «геометрический смысл уравнений и неравенств»). Меня сделали председателем математической секции комиссии, которая реально будет вырабатывать программы и заказывать соответствующие учебники. Дело это довольно важное, не безнадёжно
Из 101-го выпускника школы-интерната лишь 44 пожелали идти на
Биографию Фавара я получил, ещё не сделал из неё никакого употребления, но прошу передать благодарности и надеюсь, что
В Бретани есть много мест более привлекательных, чем Круазик. Поздней осенью там везде пусто, так что Вы можете отправиться странствовать без заказа заранее мест в гостиницах. Надеюсь, посетите в самом деле Бац и Круазик. Я жил там в «Отель де л'Оцеан» на самом берегу моря. Но Вам доступны и всякие «Мезон де Женес», если они открыты не в сезон 5.
Статью о сложности алгоритмов, о которой Вы пишете, я знаю. Это целое небольшое направление исследований, которые однако нуждаются в существенном усовершенствовании: машины Тьюринга здесь не подходящий аппарат. Можно дать разумное определение «минимальной возможности сложности», которое с точностью до ограниченного множителя единственно при широких естественных допущениях. Машины же Тьюринга при истинной сложности порядка T иногда дают T 2. Сейчас удалось придать ему и достаточную простоту...
... Всякое участие Ваше в писании учебников для массовой школы я бы приветствовал, но думаю, что авторский коллектив непременно должен быть связан с экспериментальным преподаванием именно в массовой школе. Для алгебры в
При мне звонили из Парижа И. Г. Петровскому по поводу Вашего участия в Журнале, посвящённом новой «Инвесигационной математике», который должен
Журнал этот — Inventiones Mathematicae. Что же касается писания учебников, то я категорически отказался в этом принимать участие как
Я вспоминаю, как однажды (в середине пятидесятых годов) Андрей Николаевич, собрав у себя дома учеников (студентов, аспирантов) на Рождество, произнёс целую речь о математических способностях. По его теории математические способности человека тем выше, чем на более ранней стадии общечеловеческого развития он остановился. «Самый гениальный наш математик, — говорил Андрей Николаевич, — остановился в возрасте
Так или иначе, Андрей Николаевич всегда предполагал в собеседнике равный себе интеллект — не потому, вероятно, что он неправильно оценивал реальность («большинству студентов всё равно, что говорится на лекциях, — они просто заучивают наизусть к экзамену формулировки нескольких теорем», — говорил он о студентах
«Действительно хорошо преподавать математику, — говорил Андрей Николаевич, — может только человек, который сам ею увлечён и воспринимает её как живую, развивающуюся науку». В этом смысле его лекции при всех технических недостатках были замечательно интересны для тех, кто хотел понять идеи, а не проследить за знаками и индексами (среди его лекций, которые мне довелось слышать, были лекции о полях Галуа, динамических системах, формуле суммирования Эйлера, цепях Маркова, теории информации и т.д.).
Быть может, на подходе Андрея Николаевича к преподаванию сказалось и то вольное аспирантское существование, которое он впоследствии вспоминал как самое счастливое время. Аспиранту полагалось тогда сдать 14 экзаменов по 14 различным математическим наукам. Но экзамен можно было заменить самостоятельным результатом в соответствующей области. Андрей Николаевич рассказывал, что он так и не сдал ни одного экзамена, написав вместо этого 14 статей на разные темы с новыми результатами. «Один из результатов, — добавил Андрей Николаевич, — оказался неверным, но я это понял уже после того, как экзамен был зачтён».
Сам Андрей Николаевич был замечательным деканом. Он говорил, что надо прощать талантливым людям их талантливость, и спас не одного из известных сейчас математиков от исключения из университета. Снимая буйного студента со стипендии, этот декан сам же тайком помогал ему пережить трудное время. Уровня, которого достиг тогда факультет, он более никогда не достигал и вряд ли когда достигнет.
«Кажется почти чудом, — писал А. Эйнштейн, вспоминая свои студенческие годы, — что современные методы обучения ещё не совсем удушили святую любознательность, ибо это нежное растеньице требует, прежде всего, наряду со свободой, поощрения. Большая ошибка думать, что чувство долга и принуждение могут способствовать тому, чтобы находить радость в том, чтобы искать и узнавать. Здоровое хищное животное отказалось бы от еды, если бы ударами кнута его заставляли непрерывно есть мясо, особенно если принудительно предлагаемая пища не им выбрана».
От других известных мне профессоров Андрея Николаевича отличало полное уважение к личности студента, от которого он всегда ожидал услышать
Андрей Николаевич преподавать и читать лекции определённо любил независимо даже от явных результатов — он, в частности, считал большим несчастьем прекращение лектория для школьников (существовавшего при Московском математическом обществе до тех пор, пока декан О. Б. Лупанов не отстранил Общество от руководства Московской математической Олимпиадой и школьными кружками).
Следующее письмо даёт представление о педагогической нагрузке Андрея Николаевича (снятого только что с должности декана
«... Вы ещё не ответили мне насчёт кружка или семинара для первого курса. Без Вас я всё же ничего открывать для
1) более активного, чем в прошлые годы, руководства нашим постоянным семинаром кафедры теории вероятностей,
2) регулярных собраний сотрудников и аспирантов Стекловского института и кафедры по различным прикладным работам (мы же взяли с теперешнего пятого курса, кроме аспирантов, Айвазяна, Гладкова, Колчина и Леонова в младшие научные сотрудники под определённые прикладные темы),
3) курса «случайные процессы» — это обязательный курс для студентов четвёртого года нашей специальности, я думаю, что Вам будет не вредно его слушать,
4) семинара по динамическим системам и случайным процессам для аспирантов Алексеева, Мешалкина, Брохина, Розанова и для Вас (там будут и другие участники, но эти подготовлены уже с тем, чтобы работать достаточно интенсивно и систематически),
5) семинара с В. Тихомировым для 3-го и 4-го курса по избранным вопросам теории вероятностей и
Тем не менее моё обещание еженедельно бывать на кружке или семинаре для первокурсников и приносить туда достаточно задач, а также уберегать Вас от возможного уклона в сторону приучения маленьких мальчиков к безответственной и косноязычной болтовне, как бывает (при всем их интересе) в кружках Т. В., я берусь, если вся затея состоится... Мне пишут, будто все московские студенты на июль мобилизуются в помощь московской
«... Последние два дня моя жизнь во Франции выглядит крайне не академично. Вчера была
В St Jean en Maurienne я с большим скандалом заставил итальянцев разбаррикадировать дверь, заваленную чемоданами, успел выскочить и сразу нашёл небольшое общество, ищущее автобус в Toussuire. Автобус нашёлся, но так как нас было лишь шестеро, заменился (за ту же цену) автомобилем, который быстро вознёс нас на высоту 1800 м.
Toussuire состоит из десятка домиков, в том числе
Теперь немного о Ваших нападках на меня...
... Я считаю формальную строгость обязательной и думаю, что в конечном счёте после большой (и обычно полезной для окончательного понимания) работы она всегда может быть соединена (при изложении важных, т.е. по сути дела простых результатов) с полной простотой и естественностью. Единственное средство добиться осуществления этих идеалов, это строго требовать логической отчётливости даже там, где она пока обременительна.
... Я никогда не имел времени (или энергии) писать как следует. Разнообразие моих математических и нематематических занятий (если считать последние, вроде деканства,
Посмотрите ещё, впрочем (в отношении суммарного изложения без доказательств), мой амстердамский доклад...
... В Toussuire я пробыл ровно восемь суток (так как уехал на девятый день с тем же автобусом, с которым приехал). Погода была крайне капризная, каждый день по нескольку раз шёл снег, каждый день было солнце, а в промежутках ослепительно золотистые туманы.
В общем итоге от солнца у меня сошла вся кожа с лица, но довольно безболезненным образом, сам же я загорел в меру возможного за восемь дней (без облупливания).
Потом был ещё два дня в гостях у Фаварда в Гренобле, где мы тоже ездили (на автомобиле) в горы, сидели в кафе и наблюдали, как на маленькой горке у кафе каталась на лыжах Фавардова десятилетняя дочка. Сам Гренобль, заваленные снегом глухие еловые леса в близлежащих горах, замок, который мы посещали, музей живописи в Гренобле были тоже достаточно интересны, а приём в семействе Фаварда действительно сердечным.
Сейчас уже прочёл две лекции после пасхального перерыва, завтра делаю доклад на вероятностном семинаре, а сейчас иду на «математический чай», который бывает каждую неделю в среду
«... Многочисленные слуги, работающие в саду профессора Магаланобиса, видят, что комната почётных гостей занята седым и загорелым человеком, не говорящим
Сейчас 3.h30. Ещё темно. Так как к утру прохладно, то я выключил установку кондиционированного воздуха и открыл окна. Поют птицы. Буду вновь спать.
В 6.h30 придёт красивый юноша босиком и в голубой рубашке и поставит в моей комнате (у постели, если бы я лежал) столик с чаем и фруктами. В 7.h00 придёт американский студент, с которым мы пойдём купаться в бассейне в студенческом общежитии.
В 8.h00 будет уже настоящий утренний завтрак, куда придёт Магаланобис и все живущие в доме гости. Так как мадам Магаланобис больна, то за столом хозяйничает английский геолог — Памела Робинсон.
Потом я пойду в наше консульство и выяснять в бюро путешествий детали способа возвращения.
В Бомбее я видел страшные контрасты великолепных отелей в центре и нищеты в посёлках на окраинах. Калькутта традиционнее и беднее в среднем, но сейчас, видимо, благополучный период, и
«... Вчера провёл первую половину дня с Маурицио Пейшото
Моё участие в работах экспедиции отражено даже в стихах, сочинённых к празднику Нептуна при переходе через экватор:
Первый крестник — нету споров —
Академик Колмогоров
Задаёт учёным взбучку,
Тянут те прибор за ручку
И спускают всех чертей
Для закона двух третей...
Черти обошлись со мной сравнительно мягко, а так как я был облачён наподобие римской тоги в казённую простыню, только она и пострадала от сажи на машинном масле, которой они были измазаны.
Есть, впрочем, у нас и более культурные развлечения. К вечерам с произведениями Вивальди, Баха, Шумана печатаются даже на ротапринте программы.
Кроме Рио мы были в Рейкьявике и сделали большое путешествие на автобусах к гейзерам и водопадам (т.е. большим оно было по впечатлениям, а заняло один полный день). Потом непредвиденно (чтобы отправить в Москву на самолёте больного) зашли в Конакри. Сейчас у нас месячный запас продовольствия, топливо, вообще, взято в Калининграде на весь рейс, а пресная вода получается из опреснителей. Но до возвращения заведомо будет ещё один «заход» в Гибралтар, откуда, вероятно, и пойдёт это письмо...»
Последнее десятилетие жизни Андрея Николаевича было омрачено тяжёлой болезнью. Сначала он стал жаловаться на зрение, и обычные сорокакилометровые лыжные маршруты вдоль Вори пришлось сократить до двадцатикилометровых вдоль Скалбы.
Но и во время последней нашей лыжной прогулки почти совсем ослепший Андрей Николаевич перепрыгивал на лыжах через забереги на лёд Клязьмы. Позже, летом, Андрею Николаевичу стало трудно бороться с морскими волнами, но осенью он ещё убегал за забор «Узкого» от строгого надзора Анны Дмитриевны и врачей купаться в пруду (и учил меня, где удобнее перелезать через забор, чтобы попасть в «Узкое» из Ясенева; впрочем, Андрей Николаевич никогда не был слишком добронравным и не без гордости рассказывал о своей драке с милицией на Ярославском вокзале). В последние годы жизнь Андрея Николаевича была очень тяжёлой, иногда его буквально приходилось носить на руках. Анна Дмитриевна, медсестра Ася Александровна Буканова, ученики Андрея Николаевича и выпускники созданной им школы-интерната дежурили при нём круглосуточно в течение нескольких лет.
Порой Андрей Николаевич мог произнести лишь несколько слов в час, но всё равно с ним было всегда интересно — помню, как за несколько месяцев до смерти Андрей Николаевич рассказывал, как удивительно медленно летели в войну трассирующие снаряды под Комаровкой, как он жил, вернувшись по вызову Артуправления в
Помню его рассказ о зимнем восхождении на Брокен в тридцатые годы: гордо спускающийся на лыжах в плавках Андрей Николаевич встречает двух молодых людей с фотоаппаратом. Они просят его остановиться и подойти. Вместо того, чтобы, как он ожидал, сфотографировать его, молодые люди просят его сфотографировать их.
На механико-математическом факультете МГУ до недавних пор можно было видеть картину, где М. И. Калинин беседует с профессорами, преподавателями и аспирантами в старом здании МГУ на Моховой. Там легко узнать А. Н. Колмогорова, С. А. Яновскую, В. В. Голубева, В. Ф. Кагана, П. С. Александрова
В то время дочка М. И. Калинина дружила с аспирантом-механиком, и Михаил Иванович приехал знакомиться с факультетом. Он произнёс небольшую речь, а потом попросил всех высказаться о своих заботах. Каждый стал говорить о наболевшем: аспиранты о нехватке общежитий, особенно для семейных,
Ещё один запомнившийся мне рассказ Андрея Николаевича — о Германе Вейле. По словам Андрея Николаевича, Вейль любил песни русских казаков. В комнате для музыки в его занимавшей целый этаж квартире в Гёттингене он садился вплотную к репродуктору, спиной к гостям, и, облокотившись на приёмник, слушал... Была ещё зала для
Из рассказов Андрея Николаевича об Адамаре:
Адамар был страстным собирателем папоротников. Когда он приехал в Москву, Андрей Николаевич с Павлом Сергеевичем Александровым повезли его кататься на лодке (кажется, по Образцовскому пруду на Клязьме.
Последний раз Андрей Николаевич навестил Адамара, когда тому было, кажется, лет девяносто. Заговорили среди прочего о школьных олимпиадах — во Франции давно существует аналогичный олимпиаде Concours Général, в котором участвуют лучшие (по каждому предмету отдельно) выпускники средних школ всей Франции одновременно. Задачи отбираются из составленных лучшими учителями всей Франции — учителя посылают задачи в Париж, и по качеству этих задач министерство может судить о качестве своих учителей (что и нам не худо бы перенять). По результатам конкурса определяют первого математика среди выпускников этого года, второго, третьего... тысячного...
Адамар живо помнил Concours Général, в котором он участвовал. «Я оказался вторым, — сказал он, — а тот первый, он тоже сделался математиком. Но гораздо более слабым — он и всегда был слабее». И было видно, что своё «поражение» на Concours Général Адамар и сейчас воспринимает болезненно!
Для Андрея Николаевича математика всегда оставалась отчасти спортом. Но когда я на его юбилее (в докладе Московскому математическому обществу) сравнил Андрея Николаевича с альпинистом-первовосходителем, противопоставляя его И. М. Гельфанду, деятельность которого я сравнил с прокладкой шоссе, то обиделись оба.
Сам Андрей Николаевич страстно любил музыку и готов был бесконечно слушать свои любимые пластинки, которых у него было множество и в Комаровке, и в Москве. Для меня всегда ставился квинтет Шумана, и это превращало в праздник даже те тяжелые дежурства, когда Андрей Николаевич почти не мог говорить.
Случались и комические происшествия.
На кухне Анны Дмитриевны в квартире Колмогоровых в профессорской
Она возвращалась домой поздно вечером и не успевала купить себе еды. Поэтому она попросила Анну Дмитриевну устроить ей пропуск в (охраняемый милицией) университет, где можно было успеть купить
— Боже мой, — спросил я Галину Ивановну, — какая же у Вас фамилия?
— Маркс, — ответила она.
По-видимому, предполагалось, что получить с такой фамилией пропуск в МГУ столь же трудно, как и поступить в него учиться. (К счастью, вскоре удалось найти заведующего кафедрой с более широким взглядом на вещи.)
Иногда болезнь как бы отступала, и Андрей Николаевич мог говорить дольше. Правда, понимать его своеобразную дикцию было нелегко и до болезни. Рассказывают, что во время празднования юбилея Андрея Николаевича И. М. Гельфанд упомянул о своём посещении Комаровки. Павел Сергеевич Александров немедленно подтвердил, что Израиль Моисеевич действительно бывал в Комаровке и даже спас кошку, запертую в печке, которую начали топить. Легенда (впрочем, вполне правдоподобная) утверждает, что Израиль Моисеевич прокомментировал это так: «Да, я действительно обнаружил кошку в печке, но к тому времени я слышал мяуканье уже полчаса, однако неправильно его истолковывал».
Более чем своими математическими достижениями Андрей Николаевич гордился достижениями спортивными. «В
С удовольствием вспоминал Андрей Николаевич свои юношеские путешествия по Северу, самое длинное — Вологда–Сухона–Вычегда–Печора–Шутор–Сосьва–Обь–Бийск (и далее босиком по Алтаю). В путешествии по Кулою и Пинеге ему удалось установить парус, не поддававшийся усилиям местных рыбаков, после чего Андрей Николаевич был ими признан за своего (проявилось это в том, что его стали материть наравне со своими).
Один из последних длинных разговоров с Андреем Николаевичем — о будущем человечества. Андрей Николаевич всегда с сомнением относился к перечню бывших редакторов на обложке «Mathematische Annalen».
«Как будет выглядеть обложка через 500 лет?» — спрашивал он Гильберта. Более того, он сомневался в возможности существования нашей культуры столь долгое время, прежде всего вследствие демографической катастрофы, предсказанной Мальтусом. Андрей Николаевич мечтал о новом устройстве общества, в котором богатство духовной жизни победит инстинкты. Как ни странны и наивны эти идеи, трудно всерьёз с ними спорить: человечество, скорее, опоздало прислушаться к предупреждению мыслителей, и Андрей Николаевич считал своим долгом о нём напоминать в конце своей долгой и счастливой, несмотря ни на что, жизни.
| * | Опубликовано в кн. «Колмогоров в воспоминаниях» | ||
| 1. | Вот полный текст программы (темы семинара):
| ||
| 2. | Фреше говорил мне в 1965 году: | ||
| 3. | Особенно подробно — в книге М. Борна «Атомная механика», забавный перевод которой на русский язык был издан в тридцатые годы в Харькове: например, там участвуют «трёхизмерительные разновидности» (dreidimensionale Mannigfaltigkeiten). назад к тексту | ||
| 4. | «По старости и лености, сделав какую-либо хорошую вещь, я в лучшем случае её пишу немедленно, но обычно бросаю поиски усилений и продолжений» (из письма | ||
| 5. | Я съездил в Бац, неожиданно для себя самого севши однажды октябрьским вечером в отходивший с вокзала Монпарнас поезд. В Круазик поезд пришёл в час ночи. Городок был вымерший, в «Отель де л'Оцеан» меня не пустил портье, не поверивший, что я один, а не представитель отряда гангстеров. Я заночевал, укрывшись от яркой луны и уже довольно холодного, пахнувшего йодом ветра под туей в саду, окружающем доты Атлантического вала, частью превращённые в виллы (во всяком случае окружающие пустые виллы архитектурой напоминали сохранившиеся доты). Наутро пришёл в Бац, нашёл мадемуазель Корню в её табачном киоске, окружённую многочисленными кошками. Могила Урысона у стены кладбища была заботливо убрана (П. С. Урысон утонул на глазах мадемуазель Корню в 1924 году). назад к тексту | ||