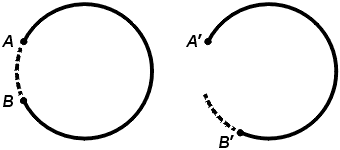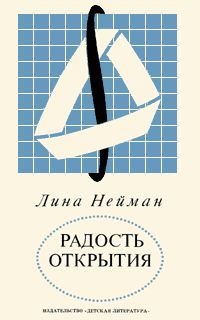 |
Л. С. Нейман. Радость открытия (математик Павел Урысон). — М.: Детская литература, 1972. 176 с. Научная редакция профессора В. А. Ефремовича. Оформление Ю. Боярского.
Эту книгу о выдающемся советском математике П. С. Урысоне написала его сестра, старейшая детская писательница Л. С. Нейман.
В течение короткой жизни П. С. Урысона его сестра оставалась одним из самых близких ему людей.
С трагической гибелью своего брата Л. С. Нейман так и не могла примириться. Все последние годы своей жизни она посвятила тому, чтобы поведать короткую историю жизни П. С. Урысона.
Не владея сама математикой, Л. С. Нейман не смогла рассказать о его научных работах. Это сделали в последней части книги выдающиеся советские математики, которые знали П. С. Урысона.
Л. С. Нейман описала в меру своих сил и своей большой любви к брату историю его детства и юности.
Писательница скончалась в марте 1971 года.
|
Создатель советской топологии
 Павел Самуилович Урысон родился в 1898 году в Одессе. Его блестящие способности проявились ещё в детские годы: учение ему давалось легко; и широкая его любознательность сказалась и в отношении естественных наук (главным образом физики и химии), и в отношении математики, а также языков и литературы. Блестяще окончив в 1915 году московскую частную гимназию, он в том же году поступил в Московский университет на физико-математический факультет, предполагая стать физиком. На его выдающиеся способности очень рано обратил внимание академик П. П. Лазарев. Под руководством П. П. Лазарева 17-летний П. С. Урысон сделал экспериментальное исследование — о радиации рентгеновских трубок, тогда же опубликованное. В дальнейшем его интересы стали склоняться к математике, а когда профессор Н. Н. Лузин предложил П. С. Урысону поступить в аспирантуру под его руководством, то выбор математической специальности был произведён молодым учёным окончательно.
Павел Самуилович Урысон родился в 1898 году в Одессе. Его блестящие способности проявились ещё в детские годы: учение ему давалось легко; и широкая его любознательность сказалась и в отношении естественных наук (главным образом физики и химии), и в отношении математики, а также языков и литературы. Блестяще окончив в 1915 году московскую частную гимназию, он в том же году поступил в Московский университет на физико-математический факультет, предполагая стать физиком. На его выдающиеся способности очень рано обратил внимание академик П. П. Лазарев. Под руководством П. П. Лазарева 17-летний П. С. Урысон сделал экспериментальное исследование — о радиации рентгеновских трубок, тогда же опубликованное. В дальнейшем его интересы стали склоняться к математике, а когда профессор Н. Н. Лузин предложил П. С. Урысону поступить в аспирантуру под его руководством, то выбор математической специальности был произведён молодым учёным окончательно.
Аспирантский период в жизни П. С. Урысона, продолжавшийся с 1919 по 1921 год, совпал с незабываемыми первыми годами формирования советской математической школы. То были годы необычайного подъёма и увлечения внезапно раскрывшимися перед студенческой молодёжью новыми творческими возможностями, созданными Великой Октябрьской социалистической революцией. П. С. Урысон был одним из первых, если не первым, среди этой молодёжи и по своим дарованиям, и по своему увлечению наукой, и по своей жизнерадостности.
Он сразу же попал в самый центр сообщества молодых математиков, группировавшихся вокруг Н. Н. Лузина, вследствие своего необычайно яркого математического таланта, а также кипучего темперамента и обаятельных свойств характера — открытого, дружелюбного, совершенно чуждого мелкому самолюбию. Его любили в товарищеской среде, как любят людей, в которых чувствуется подлинное движение большой человеческой личности.
Математическое творчество П. С. Урысона развивалось бурно и разнообразно. Даже его аспирантские отчёты надолго запоминались в среде московских математиков того времени. Почти каждый отчёт, в том числе по специальностям, далёким от основных его математических интересов, содержал тот или иной новый результат или, в крайнем случае, какое-нибудь существенное упрощение или усовершенствование доказательств. Сколько различных ошибок и неточностей находил по этому поводу П. С. Урысон в математической литературе! Из аспирантских отчётов возникли некоторые значительные его работы. П. С. Урысон прекрасно владел всей математикой, и первые его работы относились к анализу (интегральные уравнения).
Наряду с рядом работ, касавшихся различных отделов математического анализа, П. С. Урысон создал в советской математике новую область — топологию. Эта своеобразная область геометрии посвящена изучению основных геометрических понятий непрерывности и непрерывного преобразования и имеет большое принципиальное значение в современной системе математических знаний. Её значение возрастает с каждым годом. Вместе с тем возрастает и область её применения. В настоящее время топология играет большую роль, например, в таких областях математики, как дифференциальные уравнения, вариационное исчисление и т.п., а эти области уже непосредственно связаны с практикой.
Основное место П. С. Урысона в истории советской математики определяется тем, что именно он является создателем советской топологии. Эта область математики после классических работ П. С. Урысона широко и плодотворно развивается в СССР. Советская топологическая школа является одной из самых сильных наших математических школ. В области топологии работы советских учёных, и в первую очередь работы самого П. С. Урысона, не только достигли, но во многих случаях превзошли работы зарубежных учёных. При этом П. С. Урысон решил одну из центральных проблем топологии — проблему числа измерений (размерности) для любых, даже самых сложных геометрических фигур. Тем самым он явился основателем нового течения мысли, в значительной степени преобразовавшего всю современную топологию и сделавшего П. С. Урысона одним из крупнейших представителей этой области математики.
П. С. Урысон читал в Московском университете курс под заглавием «Топология континуумов», в котором излагались его новые результаты, часто тотчас же после их доказательств. Этот курс — первый топологический курс, прочитанный не только в Московском университете, но и вообще в нашей стране, — был, несомненно, одним из самых замечательных математических курсов, когда-либо прочитанных в стенах Московского университета, замечательных именно в силу его глубоко творческого характера.
Вся научная деятельность П. С. Урысона продолжалась каких-нибудь четыре года. Теория размерности, метризационные теоремы, знаменитая «лемма Урысона» о существовании «достаточно многих» непрерывных функций в нормальных пространствах, теорема о включении в гильбертово пространство — эти и другие результаты П. С. Урысона, представляющие собой огромный вклад в науку, не только не забыты за истёкшие со дня его смерти почти полвека, но доказали свою жизнеспособность в тех многочисленных дальнейших исследованиях, которые примыкают к работам П. С. Урысона.
Блестящая творческая деятельность П. С. Урысона оборвалась неожиданно и трагически: находясь в заграничной научной командировке, П. С. Урысон утонул, купаясь в Атлантическом океане, у берегов Бретани. Погиб в самом начале своего творческого пути одарённый советский учёный, от которого советская наука и наша Родина были вправе ждать многих столь же глубоких и важных открытий, как те, которые он успел сделать за свою короткую, 26-летнюю жизнь.
В лице П. С. Урысона математическая наука потеряла учёного самого большого масштаба, с универсальной математической одарённостью, с интересами, охватывавшими всю математику, с любознательностью, распространявшейся на самые разнообразные области человеческого знания. Общая одарённость его личности, объективно запечатлевшаяся в его научном наследии, проявилась в его лекциях, удивительных по проникновенности и образности мыслей, в его сильных и глубоких реакциях на всё значительное, что происходило вокруг него в жизни человеческого общества, в его умении и любви работать, в той остроте, с которой он воспринимал природу и искусство. Всё это делает образ Павла Самуиловича Урысона не только живым, но и незабываемым по творческой силе и по человеческому обаянию для всех людей, которым довелось с ним встретиться на своём жизненном пути.
Академик П. С. Александров
РАДОСТЬ ОТКРЫТИЯ
|
Вдохновение нужно в геометрии,
как и в поэзии.
А. С. Пушкин
|
|
Детство
Одесса
Южный город, большой и шумный, красивый город у Чёрного моря — Одесса. Далёкий 1898 год. Ночь на 22 января. Прямая как стрела Ришельевская улица, с двумя рядами акаций, по-ночному тёмная и тихая. Не слышно ни шагов, ни стука колёс, ни песни, ни крика, ни тихого говора, ни вздоха. Всё словно заснуло в ночной тишине.
Странный этот новый дом на углу Ришельевской и Базарной. У хозяина хватило денег и на мраморную лестницу, и на балкон, и на высокие окна — и всё это на Ришельевскую улицу. А вот на Базарной дом словно отрезали и поскорее припёрли к соседнему. И даже для двора места не оставили. Так, ничтожную щель. Вот из неё-то с метлой вылезал среди ночи молодой дворник Гаврила. И сегодня, как обычно, он вышел на улицу, сразу увидел свет керосиновой лампы сначала в одной комнате второго этажа, потом в другой.
«Э-ге-ге, — подумал Гаврила, — что-то случилось у Урысонов».
Не успел он подумать, как звякнул ключ в замке парадной двери. На улицу выскочила Марика: в тёмной юбке, поверх короткая жакетка, платок на голове.
— Марика! — окликнул Гаврила и, шурша метлой по каменному тротуару, поспешил к ней навстречу.
Но Марика быстро заперла дверь, только и успела крикнуть:
— Гавриль! Сичас нима время, — и побежала через улицу, да так быстро, словно за ней городовой гнался.
«Что там стряслось?» — раздумывал дворник.
Хорошая девушка эта Марика. Он знал, что она вместе с семьей Урысонов из Ковно переехала.
В семь часов, когда уже рассвело, отец вошёл в комнату девочек.
— Поздравляю вас с братиком! — Голос Самуила Иосифовича слегка дрожал.
В семье появился мальчик.
Он был здоровым и спокойным. Внимательно рассматривал каждого, кто подходил к нему, переводил взгляд от одного к другому и, убедившись, что все на месте, широко улыбался.
Лето пришло неожиданно. Весна пропустила свой черед. Настоящее южное одесское лето.
Дача Вагнера в Аркадии стояла высоко на горе, над Чёрным морем. Внизу тянулась светлая даль береговой полосы. А наверху, на горе, — лес.
Наступил июль. Самый жаркий месяц. От жары земля ссохлась, потрескалась. И даже на вагнеровской даче, вдали от города, у самого моря, уже с утра было тяжко дышать.
Вот в такой жаркий день мать с утра уехала в город. А сёстры вместе с Марикой повезли Павлика в город, в фотографию. Дорога обратно была трудная. Павлик устал. На лбу блестели капли пота, мальчика клонило ко сну.
Зато в день серебряной свадьбы ни один подарок так не пришёлся по душе отцу с матерью, как фотографическая карточка сына. Одному Павлику фотография не нравилась. Он хлопал по ней ручонками, как будто досадовал, как нелегко она ему досталась.
И второе лето на даче Вагнера. Павлика катают в лёгкой соломенной коляске. Она как экипаж — можно откинуться на спинку сиденья.
Мать беспокоится. Сыну полтора года, а он не ходит. Отец, как всегда, успокаивает:
— Мальчик ещё не в силах.
Однажды к вечеру отец вернулся из города. У самого дома по узенькой дорожке к нему шёл неуверенными шажками Павлик. Его относило в сторону, он что-то бормотал, захлебывался... Позади шла мать, широко расставив руки.
— ...Прошёл ещё год. Снова лето на той же даче Вагнера. В гости приехала старшая дочь из Полтавы. Анна привезла с собой дочку Лидочку, на семь месяцев моложе Павлика.
Общество племянницы нравилось Павлику. Вместе они лазали по широким ступеням.
Анна охотно гуляла с малышами в лесу. Но раз ей, молодой матери, пришла мысль: подразнить ребят. Она спряталась за старым могучим дубом. Первая заметила исчезновение матери девочка. Она громко звала её тоненьким, пискливым голоском:
— Мама!
И Павлик звал сестру:
— Ойя!
Но отклика не было. Тогда дети взялись за руки и решительно повернули к дому.
История дубового шкафчика
В этот день мать запоздала к обеду. Дети забеспокоились: мама всегда так аккуратна. Они вышли на балкон и стали смотреть по сторонам.
— Идёт! Идёт наша мама! — первая заметила Леночка.
Мать остановилась у подъезда, на мостовой. Вслед за ней у подъезда остановилась тележка, на ней лежал шкафчик, длинный и узкий.
— Куда поставить шкафчик? — спросил столяр Нохим.
Сёстры переглянулись: для кого мама его купила?
А мать, всё такая же радостная, показала на угловую комнату «барышень»:
— Вот сюда. Это шкафчик Павочке для игрушек, чтобы не валялись по всем углам. Надо мальчика приучать к порядку.
Нохим коричневыми, словно отполированными, пальцами потрогал дверцу шкафчика.
— Видите, мадам Урысон, я тут выточил на дереве раскрытую книгу. Я думал, что этот шкафчик пойдет для книг... — В его голосе прозвучало разочарование.
Мать погладила по голове сына.
— Может быть, в шкафчике будут потом и книги.
Товарищи и игры
Зимой 22 января 1901 года Павлику исполнилось три года. В день рождения мальчику подарили заводные игрушки. Но всё это было ничтожным в сравнении с железной дорогой. Павлик выкладывал на полу рельсы, соединял их, укреплял концы, ставил столбы с обозначением станций. Таких станций было три.
Павлик был отличным машинистом. Вот только он не мог взобраться на свой паровоз.
У Павлика было мало товарищей. Кроме взрослых, приходили только два мальчика: Володя Константиновский и Даня Штерн. Володя — беленький, тихий и спокойный, Даня — чёрненький, шумный, весёлый. Все трое они носились с невероятным гиканьем по всей квартире. Но был у Павлика ещё третий товарищ, самый любимый, — Илюша. Он был гораздо старше.
Теперь два «машиниста» лежали, вытянувшись, рядом на полу: большой Илюша и маленький Павлик, две чёрные головы прижимались друг к другу.
На Малом Фонтане
Отец с матерью стали искать дачу на Малом Фонтане. Ни к чему дача Вагнера. Очень дорогая. И большая.
Нашлась подходящая небольшая дача на Малом Фонтане, близко к широкому спуску к морю.
Мать искала для Павлика учительницу французского языка. Очень скоро удалось познакомиться с француженкой из Швейцарии. Обе матери быстро сговорились. Ребёнок у мадам Сесиль был бледный и маленький. У мальчика были такие же большие грустные глаза, как у его матери. Какая судьба занесла мадам Сесиль в царскую Россию? Доброе лицо, прямой пробор в гладких светлых волосах, тихий голос, бедное, но необычайно чистое, заштопанное платье, белый воротничок и манжетики. Как воспитанный человек, Ромэн ласково улыбнулся незнакомой тёте. Мать Павлика так же ласково улыбнулась ребёнку. Мадам Сесиль всё поняла: она должна учить маленького Поля французскому и договариваться больше не о чём.
— Ох... — вздыхал Павлик, когда француженка усаживала его на высокий стульчик, придвинутый к самому столу, и раскладывала на нем карты цветного лото: фрукты и овощи. — Опять эти противные legume (овощи)!
А мадам Сесиль перемешала на столе картонные квадратики и указала на один из них:
— Pomme de terre.
— Нету картошки, — ответил по-русски Павлик.
Мадам Сесиль осталась недовольна ответом.
— La carotte (морковь), — продолжала по-французски мадам Сесиль.
— Нету морковки, — отвечал по-русски Павлик.
— Почему нету? — возражала француженка. Она взяла палец Павлика и ткнула им в морковку.
Павлик молчал, но не сдавался, и мадам Сесиль должна была сама накрыть клетку в лото своим четырёхугольником.
Но когда мадам Сесиль назвала: «Le concombre (огурец)», Павлик рассердился, смешал все карты. Из больших глаз медленно поползли блестящие слезинки.
— Зачем эти «легюм», и так видно: картошка, морковка, огурец... Не хочу учить французский, не надо...
И мальчик попытался спрыгнуть с высокого стула.
Мадам Сесиль, может быть, не изучала у себя в Швейцарии педагогику, но она обладала тактом. Она погладила его по волосёнкам и сказала на своем языке:
— Allons à la promenade. Sur la mer! La mer! La mer! (Идем к морю! Море! Море!)
Это Павлик понял. Он любил море. Мальчик уцепился за руку француженки, и оба, довольные друг другом, отправились к морю.
Цветут акации
Родители Павлика решили сменить квартиру. Решили и переехали. И тут все приуныли. Большие, высокие комнаты оказались тёмными и холодными. А длинный коридор был нескончаем. Идти в кухню за чайником было целым путешествием.
В этом коридоре, в самом конце, выделили комнату Павлику. Из комнаты мальчика дверь вела в огромную тёмную комнату, из которой выход был в комнату «барышень».
Комната Павлика была уютная, светлая. Огромное окно выходило на балкон с деревянными перилами, в тихий двор. Выход на балкон был из комнаты «барышень».
Павлик вышел на другой балкон, из столовой на шумную Ришельевскую улицу, прислонился к высокой чугунной решётке, и его поразило, что акации подходят гораздо ближе к дому, чем на противоположной стороне, где он раньше жил. Тротуар на этой стороне был значительно уже. Павлик улыбнулся доброй улыбкой и сказал:
— Как близко цветут акации...
Павлику исполнилось пять лет. Он сидит в столовой на широком ковровом диване в своей обычной позе: положив правую стопу на левое колено. Обеими руками держит перед собой книгу.
Мальчик поднял голову, задумался, поглядел перед собой. Глаза большие, чистые, ясные, блестящие, глубокие глаза. Павлик о чём-то думает.
Неожиданно быстро поднимается с дивана и направляется в свою комнату. Мальчик умеет писать. И не печатными буквами, а по-настоящему. Его никто не учил, и ему никто не помогает. Он пишет сестре Лене письмо в Москву:
«Дорогая Лена! Сегодня выпал первый снег, и сегодня у меня выпал первый зуб...»
Прошёл год. Павлик заметно подрос. Только глаза всё те же. Всё так же задумчиво он отрывает взгляд от книги и смотрит вдаль. Он всё время о чём-то думает.
Изменилась комната. Сколько прибавилось вещей! У стены налево стоит большая чёрная доска. Мелки на месте. Мальчик берёт один из них и пишет.
Шкафчик для игрушек потерял своё название. Он теперь уже не игрушечный. Одну только коробку Павлик оставил себе — железную дорогу.
Все игрушки постепенно переходили в тёмную комнату, их сложили в большую корзину с крышкой. Теперь в узком дубовом шкафчике лежат в большом порядке белые пакетики. На них надписи, их сделал сам Павлик, и эти же записи сделаны в тетради с клеёнчатым переплётом и с надписью: «Химия». На одной из полок в шкафчике разместилась химическая посуда для опытов.
На стене, напротив классной доски, висит большая географическая карта: два полушария.
В комнате стоит ещё школьная парта для одного ученика. Ученик должен уметь правильно сидеть.
Среди новых вещей один только старожил — дубовый шкафчик. Дубовый шкафчик постепенно превращался в книжный.
Первые книги
Павлик часто брал в руки газету «Русское слово», спрашивал названия букв, напечатанных жирным шрифтом, соединял их. Потом находил такие же буквы на вывесках. Особенно поразила мальчика буква «ъ». Он спрашивал, как она произносится. Когда он научился писать, он ставил её куда надо и не надо и выводил особенно крупно.
Родные и знакомые никогда не забывали 22 января. Это был день рождения Павлика. И хотя их никто не приглашал, они все приходили и приносили подарки.
Что подарить мальчику, которому исполнится шесть лет? Ведь он интересуется химией и физикой. Он всегда задаёт такие сложные вопросы. Вот если б были книги с такими названиями: «Моя первая химия», «Моя первая физика». Но таких книг на русском языке нет.
Тогда вспомнили: а ведь маленький Поль уже три года учится французскому! Может быть, он уже сможет прочесть красивые книги на французском языке?
В день рождения Павлика все несли и несли книги. Ни одной игры. Ни одной коробки конфет, хотя Павлик и сластёна. Мальчик, впрочем, относился весьма сдержанно к своему дню рождения. Его нисколько не интересовал новый праздничный костюм, который мама сшила сама.
Вечером зажигались все керосиновые лампы в квартире. Приходили гости, но это были всё взрослые люди. Павлику все дарили книги, он кланялся, благодарил... и уносил их в свою комнату.
Вот книга в сером переплёте. Синим с золотом буквами на французском языке: «Юный химик». Павлик открыл книгу и начал её читать. Это совсем не трудно. Оп знает эти слова: водород, кислород, сера...
Но в это время его внимание привлекла другая книга, гораздо большего формата, в великолепном красном переплёте, тоже с золотым обрезом: «Первые опыты по физике». Какие рисунки! Они помогают понять то, что напечатано по-французски. Глаза у мальчика заблестели. Незнакомое слово можно найти в словаре.
Павлик рассматривает остальные книги, одну за другой.
Он слышит мамин голос:
— Павочка, где ты? Идём ужинать.
Ведь сегодня он ужинает вместе со всеми взрослыми. На столе будет стоять лимонад, можно будет попросить наполнить стаканчик сначала папу, потом маму, потом Лину, потом дядю Адольфа, и ещё студента Осю, и... и... и...
А на сладкое будет мороженое, сливочное и шоколадное.
Павлик бежит в столовую огромными прыжками — коридор такой длинный. Новые ботинки так страшно скрипят.
"Павло-Бромати"
Павлик часто гулял с мамой и всегда рассказывал о своих опытах по химии. Что получится, если такое-то вещество смешать с таким-то? Какое при этом получится новое вещество и каким свойством оно будет обладать?
Мальчик чувствовал, что мать слабо реагирует на его сообщения. Тогда Павлик забегал вперёд и жалостливо просил:
— Ну, пожалуйста, мамочка, если ты поняла, то, пожалуйста, повтори.
Мать невольно смеялась. Однажды он заявил:
— Сегодня будет лекция по химии.
Мальчик бегал по квартире. Где бы устроить эту лекцию? Придут, конечно, все. У Оси ещё два товарища в гостях. У Лины сидит её подруга — педагог, слушательница Московских высших женских курсов. Аудитория будет большая.
«Лектор» в своей комнате за столом. Парта отодвинута, она ни к чему.
— Идут! Идут! — радостно сообщает Марина. — Уси идут!
Марика села в последнем ряду, поближе к двери, благо кухня рядом. Особенно шумно идут три студента в праздничных мундирах. Лина косо на них смотрит: от них добра не жди. Ося всегда придумает что-нибудь смешное, может обидеть Павлика.
Папа и мама садятся в первом ряду. Наверное, они хотят дать пример серьёзного отношения к лекции.
Павлик смешивает порошок железа и порошок серы и объявляет:
— Сернистое железо.
«Лектор» высыпает немного голубого порошка в стакан с водой, тщательно размешивает его, пока порошок не растворился.
— Готово! — говорит мальчик, берёт большой железный гвоздь и опускает в раствор.
В аудитории, сначала шумной, устанавливается тишина. Слышится радостный возглас мальчика:
— Смотрите! — Павлик вытаскивает гвоздь из стакана. Он покрыт медью. Павлик сияет: — А ещё вот что: железо немного перешло в раствор. Видите? А медь? — И «лектор» заканчивает с несказанной радостью: — Медь из раствора выделилась... Всем видно? Красный налёт! Смотрите!
Павлик проводит кислород в пробирку и вносит в неё тлеющую лучинку. Она вспыхивает. А ртуть остаётся в пробирке.
— Как в градуснике!
Подруга Лины не может удержаться, она улыбается и громко говорит:
— Ну право молодец!
Все сидят спокойно. Даже друзья-студенты остаются на своих местах. Маленький «лектор» ловко управляется со своими опытами.
Ося кричит:
— Браво, Павло-Бромати!
Но Павлик нисколько не обижен, он ничего не слышит, он занят: укладывает свои пакетики, белую химическую посуду, носится туда и обратно из своей комнаты в кухню.
Аудитория расходится со стульями в руках.
Твёрдое решение
Самостоятельные занятия Павлика по химии продолжались. Мальчик умел работать с книгой. На столе лежали справочники, словари, указатели и любимый французский словарь Ларусс.
Когда вопрос, занимавший маленького химика, был хорошо изучен, он садился за парту, брал одну из своих тетрадей с белыми наклейками на обложках на французском языке: «Chimie № 1», «Chimie № 2» и так далее, и вносил свои выводы. Первая страница отводилась оглавлению.
Занятия сопровождались опытами. Этого требовала наука. В семье было такое доверие к восьмилетнему мальчику, что никому и в голову не приходило спрашивать Павлика, в чём же состоят его опыты.
Часто Павлик просил у отца:
— Папочка, дай двадцать копеек или тридцать копеек.
А один раз мальчик попросил даже два рубля. По тому времени это были большие деньги. Должно быть, Павлик сам почувствовал, что сумма велика, и, не дожидаясь вопроса отца, объяснил:
— Знаешь, я хочу делать опыты, мне нужно обзавестись лабораторией.
И отец дал эти деньги.
Лаборатория разрасталась. Она уже не помещалась на широком подоконнике. Игрушечный шкафчик стал книжно-химический.
Иногда мать говорила:
— Павочка возится один в своей комнате с препаратами. В конце концов, он же маленький мальчик!
На это отец спокойно отвечал:
— Он действительно небольшой. Но дети бывают разные. Он знает, что делает. На него можно положиться.
Грохот, который раздался из комнаты мальчика, услыхали одновременно мать и сестра. Они бежали друг другу навстречу по длинному коридору.
— Павочка!
По комнате плыл едкий запах гари.
Мальчик спокойно стоял спиной к двери. Он не был испуган, только показался бледней обычного.
— Ничего не понимаю... Всё сделано, как указано в книге, тут не было никакой ошибки, — сказал он твёрдо.
После узнали, почему получился взрыв. Павлик хотел добыть водород, собирая его в перевернутую колбу. Но в неё раньше проник воздух, и, когда он поднёс спичку, всё взорвалось.
Никто с Павликом о происшедшем взрыве не говорил. По-прежнему на маленьком столе лежали книги по химии, на парте — аккуратные тетради, в них вписывались тексты, формулы, переснимались рисунки.
Но к химической посуде мальчик не прикасался.
Настал день, когда в руках у него оказалась книга «Мои первые опыты по физике». Он долго рассматривал рисунок: бокал, наполненный наполовину водой, лежащая рядом стеклянная палочка. Великолепная книга по химии в сером переплёте была отложена. На смену ей пришла книга в красном переплёте — книга по физике. На столике сменились справочники, словари, указатели. Неизменным оказался любимый розовый Ларусс.
Первая обида
Зимой 1907 года Павлику исполнилось девять лет. Пора было подумать о поступлении в гимназию. В семье жалели мальчика:
— Дома можно больше успеть.
Но когда Павлику исполнилось десять, отец решил:
— Чем же мы отличаемся от других? Все стремятся отдать детей в гимназию, и мы будем рады видеть Павлушу гимназистом.
Решено было подать прошение во второй класс Третьей мужской гимназии. Там учился и блестяще её закончил с золотой медалью кузен Павлика Иосиф Урысон. Тот самый весельчак студент, который жил у родителей Павла.
Занималась с Павликом сестра Лина. Никаких затруднений в занятиях не было. Павел не только не волновался, но даже не думал об экзаменах. Для него было важно разобраться в задаче. Чем она была трудней и сложней, тем ему было интересней.
— Павлик, — не раз повторяла сестра, — ты не ищи собственного решения в задаче. Гимназия казённая, у них свои правила. Надо знать эти правила и по ним решать.
Павлик склонял голову, на миг мелькала в глазах какая-то хитрая смешинка.
— Знаю!
Дома все были спокойны за Павлика. Об экзаменах никто не говорил.
На экзамен мать провожала сына, ждала его и шла с ним обратно домой.
Через несколько дней после экзаменов, когда за столом сидели родители и сестра, отец вынул из кармана письмо:
— Нерадостное и необъяснимое сообщение. — И он прочёл: — «Многоуважаемый Самуил Иосифович!
Ваш сын Павел выдержал все испытания, полагающиеся для учеников за первый класс. Однако он не может быть принят в число учеников второго класса вверенной мне гимназии, ввиду отсутствия вакансии в Третьей гимназии для учеников-евреев.
Директор (следовала фамилия)».
Все трое долго молчали.
— Вот начало дороги, — сказал наконец отец. — Но это неважно, — добавил он, — на этот раз неважно. Павлик может продолжать учиться дома. Может быть, это даже к лучшему.
Отец встал. Чувствовалось, что ему тяжело.
У семьи были друзья. Они знали мальчика и считали, что с этим решением надо бороться. И они принялись хлопотать.
Снова отец получил ответ. Ещё более жесткий и обидный, чем первый.
«На прошение Ваше от 21 августа, переданное господином попечителем округа на окончательное распоряжение Педагогического совета вверенной мне гимназии, имею честь уведомить Вас, милостивый государь, что просьба Ваша не может быть удовлетворена за отсутствием вакансий в Третьей гимназии для учеников-евреев».
Приложение: метрика, свидетельство о привитии оспы, фотографическая карточка Павлика.
Глядя на неё, можно было бы с уверенностью сказать, что единственный в семье человек, кого не огорчил отказ, был сам Павлик. Но от Павлика всё это скрыли.
Грустная осень
Поздней осенью в условленный день ранее обычного пришла мадам Сесиль. И не одна, а с сыном. Француженка была взволнована.
— Что-нибудь случилось? — спросила мать.
— Да, — ответила мадам Сесиль, — мы уезжаем на родину, в Швейцарию.
Мать Павлика растерялась. Всё так неожиданно! Какого друга теряет Павлик! Разве найдешь такого? Как быстро мадам Сесиль научила мальчика языку. И как мягко, любовно к нему относилась.
Пароход, который увозил мадам Сесиль на родину, отходил вечером. На берегу среди провожавших стоял Павлик с отцом, матерью и сестрой.
Грустная выдалась осень у Павлика да и у всей семьи.
Марика получила письмо из Америки, забилась в свою комнату и плакала.
— Что случилось? — спросила мать.
Марика захлебывалась от слёз и не могла выговорить ни слова.
Дядя из Америки прислал письмо. Ему удалось выслать ей «шифс-карту» (билет на океанский пароход). Она немедленно должна собраться и ехать. Дорога дальняя, зимой будет ещё труднее.
Мать утешала Марику:
— Чего же ты плачешь? Ты же сама хотела ехать.
— Я не знаю. Сама не знаю...
Обед прошёл грустно. Марика сидела заплаканная, не поднимая глаз и почти не дотронулась до еды. Все ели молча, подавленные, стараясь не выказывать своей грусти, чтоб не огорчить бедную девушку. Казалось невероятным, что в доме не будет Марики, их Марики, которую привезли из Ковно, при которой родился Павлик, с которой Лена и Лина дружили, как с сестрой. Что ждет её в Америке? Отец и мать у неё давно умерли. А дядя хоть и родной брат матери, но Марика его никогда не видела.
На этот раз большой океанский пароход уходил днём.
Длинный, протяжный гудок. Мать, брат, сестра в последний раз крепко обняли Марику. Все обещали писать, не забывать...
«А нитки оказались плохие». Эти условные слова были придуманы для Марики, если жизнь ей у дяди в Америке не понравится. Марина писала о плохих нитках для вышивания тотчас по приезде и после и много времени спустя...
Павлик шёл по длинному коридору навстречу отцу, матери, сестре и повторял:
— Опять нитки для вышивки у Марики плохие...
Письмо от бабушки
Родители матери Павлика жили в городе Ковно, в Литве. Они много раз просили дочь приехать к ним погостить с сыном. Старики хотели видеть внука. Но время шло, а дочь всё не ехала: семья, дети, дом, хозяйство.
Пришло письмо от бабушки. Мать читала его вслух, потом про себя. Она плакала.
Вошёл отец, взял письмо из рук матери.
«Мы с дедом очень слабы, годы у нас большие. Кто знает, удастся ли нам повидаться и увидеть нашего внука. Ведь ему скоро десять лет исполнится, большой мальчик...»
— Когда ты думаешь ехать? И возьмёшь ли Павлика?
Мать кивнула:
— Да, как можно скорей.
Мама волновалась. Она думала о родном доме в Ковно, о первой поездке Павлика.
Отец к вечеру пошёл с сыном в парикмахерскую. Мать складывала вещи в небольшой чемодан. Отец с Павликом вернулись быстро. Мать открыла им дверь. И вдруг Лина услыхала тихий вздох:
— Боже мой, что сделали с мальчиком? Сам на себя не похож. Как я его покажу?!
Ведь лето, отец велел остричь Павлика наголо. Отец убеждал: зачем летом в жару нужна эта чёлка?
Павлик вертелся возле матери:
— Мамочка, ну, мамочка, что же тут плохого? Очень даже приятно, прохладно. Так очень хорошо.
Приехали в Ковно утром. Мать решила никого не беспокоить так рано и не предупреждать о своём приезде. Извозчик въехал в тихий переулок. Ещё издали мать узнала красный кирпичный дом и указала на него Павлику:
— Вот дедушкин дом.
У ворот мать остановила извозчика:
— Дальше не надо.
Извозчик слез с козел, поправил свою шапку и понёс чемодан. Павлик очутился в большом, тихом дедушкином дворе. Три деревянные ступени вели в скромную квартиру. Дверь была не заперта. Мать расплатилась с извозчиком. В передней было совсем темно. Но мать знала родной дом. Она тихонько постучала.
— Пожалуйста, войдите, — ответил мужской голос.
В комнате было полутемно. На окнах висели тёмные занавески, только один угол, поближе к конторке, за которой стоял дедушка, был отогнут.
Дедушка чуть отодвинулся от конторки, за которой писал, и посмотрел на вошедших. Он был растроган. Не сказав ни слова, обнял дочь, взял внука за руку и долго смотрел на него. Потом улыбнулся доброй улыбкой:
— Весь в наш род!
Мать поспешила на половину бабушки. Бабушка обнимала внука, заливаясь слезами.
Когда позавтракали, Павлик выскользнул во двор. После тёмной и душной, с завешенными окнами квартиры двор показался мальчику особенно светлым и солнечным. Но во дворе было очень тихо. Откуда-то неслись детские голоса. Павлик пошёл на эти голоса и нашёл за первым двором второй, небольшой, в глубине которого был сарай. Там играли дети.
При появлении чужого мальчика игра приостановилась. Все окружили Павлика. Павлик дружелюбно улыбнулся и подошёл посмотреть, во что они играют. На земле были разложены кирпичи, на равном расстоянии один от другого. На них лежали щепочки. Если взять в руки камушек, отойти шагов на десять, прицелиться и сбить одну щепку, за ней вторую, третью?
Павлик взял камень. Может быть, это и была та самая, в которую они играли? Все повеселели, и пошла игра.
Он так увлёкся, что не заметил, как к ним подошли дедушка с мамой. Он не слышал, как дед сказал:
— Смотри, дочка, Пауль уже познакомился с детьми.
Мама с гордостью ответила:
— Да, папа, Пауль у нас простой человек.
Павлик заботится о маме
Этим летом решили дачу не снимать. Лучше поехать пожить в небольшом скромном месте недалеко от Одессы, в Каменке. Там Днестр, виноградники, сосновый лес.
Так и решили: мама с Павликом поедут в Каменку. Павлик будет заботиться о матери, здоровье у неё плохое.
Наступила тёплая, солнечная осень.
На улицах стало оживлённо. Вернулись после летних каникул ученики школ и гимназий. Они полны хлопот, заботливо покупают книги для предстоящего учебного года. Книжные и писчебумажные магазины переполнены.
Готовится к занятиям и Павлик. Его не приняли в гимназию, для него там нет места. Он снова будет заниматься с сестрой. Оба заняты покупкой книг.
Дома Павлик аккуратно обернул все книги в белую бумагу, сестра принесла несколько новых книг. Кое-какие старые книги нашлись дома. Книги редко переиздавались. На всех Павлик поставил свою печать: «Павел Урысон».
Дубовый шкафчик продолжал пополняться. Появились новые книги по химии на французском языке.
Павлик просит деньги у папы.
— На что они тебе? — спрашивает отец.
— Мне необходим карманный французский словарь. Маленький-маленький. — Павлик показал двумя пальцами, какой величины должен быть этот словарь.
Отец едва сдержал улыбку:
— Ты собираешься поехать во Францию?
— Нет ещё, пока нет, — серьёзно, не замечая улыбки, отвечал мальчик. — Но это удобно. Захочется знать, как на французском языке какое-нибудь слово, вытащил из кармана словарь — и готово!
Так у Павлика появился маленький словарь. Он действительно был очень удобен, и Павлик пустился с ним путешествовать по карте. Линию путешествия он обозначал красным карандашом. А иногда флажками.
Зима прошла незаметно.
Новое увлечение
Настала осень, и Павлику не с кем было пойти к морю. Все были заняты.
Однажды мать вернулась домой сияющая:
— Нашла для Павлика замечательную француженку.
Как же её зовут?
Мать шутила. Имя у новой француженки очень трудное, фамилия ещё трудней.
— Она высокая? — спросил Павлик.
— Нет. Очень, очень маленькая. Чуть повыше тебя.
В семье стали ждать «маленькую француженку».
И вот она появилась: очень маленькая старушка, старая-престарая и вся в чёрном.
Павлик повёл новую учительницу в свою комнату и по дороге спросил:
— А как мне вас называть?
— Просто мадемуазель, это самое удобное.
Так до конца знакомства никто в семье не знал ни имени, ни фамилии новой учительницы. А за глаза её все называли «маленькая француженка». Так как в доме её все полюбили, слова «маленькая француженка» произносились всё теплей и любовней.
«Мадемуазель» приходила утром к завтраку, занималась с Павликом и в любую погоду отправлялась с ним гулять к морю. А после обеда уходила домой. «Мадемуазель» никуда не спешила, её, видимо, никто не ждал, и она ни о ком не рассказывала. Очевидно, у неё не было родных. «Маленькая француженка» принесла с собой большую любовь к природе. В комнате мальчика появились горшки с цветами и травами, распустившиеся почки. На деревянном балконе, выходившем во двор, появились ползучие растения.
Мальчик с радостью бежал в свой «сад», звал туда всех, кто был в доме. На его столе, рядом с партой, перед доской, были новые книги по ботанике, главным образом на немецком языке. Мальчик был увлечён. Он подолгу наблюдал за всем, что жило и росло в его балконном и комнатном саду.
Они подружились, часами гуляли у моря. «Мадемуазель» рассказывала, что знает ботанику совсем не из книг. «Маленькая француженка» родилась и росла в старом провинциальном городе Франции Блуа, недалеко от Парижа; дед её был садоводом.
«Мадемуазель» прекрасно чертила на доске, крепко держа мел морщинистыми, старческими руками. Очень точны были и её рисунки в тетради.
На столе у Павлика лежали новые тетради с надписью: «Ботаника», «Гербарий № 1, № 2, № 3». Павлик всех тащил за руку, показывал:
— Смотрите, веточки зелёные, корень коричневый, а цветы сохранили свой цвет, от тёмно-тёмно-лилового до бледного, почти белого. — И с жаром добавлял, как сушит цветы в книге между двумя листами бумаги: — Нужен тяжёлый пресс. — Он принёс из кухни медную ступку с пестиком.
Довольна и «маленькая француженка»: она принесла радость в этот дом.
Ещё одна обида
Снова шёл Павлик с мамой на экзамен в Третью гимназию. Мать не волновалась за сына.
Экзамены кончились. А лето только началось. Надо было ждать ответа из гимназии.
Солнце ещё не садилось. Мать с дочерью и сыном спешили в Аркадию, к морю. Все трое радовались прогулке. Хорошо проехаться конкой по широкой, светлой, чистой дороге, любоваться замечательными цветами, ощущать тонкий запах роз и отдалённый запах моря. А приехав на Малый Фонтан, спуститься к морю и пройтись берегом, у самой воды, в Аркадию. Они весело шутили, смеялись и торопили друг друга.
Вдруг звонок! Дочь побежала открыть дверь.
Пришёл учитель из гимназии, молодой блондин, высокий, в белом кителе с золотыми пуговицами, а на них двуглавые орлы с распластанными крыльями. Сказал, что хочет видеть отца или мать.
Мать заволновалась, вышла к гостю, держалась, как всегда, с достоинством. Она пригласила гостя сесть. Молодой человек был явно смущён. Он продолжал стоять, переминаясь с ноги на ногу, и неловко пролепетал, что дело у него небольшое и много времени не отнимет.
— Что вас привело к нам? — спросила мать.
— Видите ли, дело в математике. Хотя у вашего сына получился правильный ответ, но решение задачи у него неправильное. Я имею право снизить ему отметку.
Мать посмотрела учителю прямо в глаза.
Молодой человек как-то замялся, потом приблизился к матери и тихо, доверительно сказал:
— Это будет стоить двадцать пять рублей.
Мать стояла всё так же спокойно. Она не знала, что ей делать. Одна, без мужа, она ни на что не могла решиться.
— Мужа сейчас нет дома. Я должна с ним посоветоваться.
Учитель неловко поклонился, наткнулся на стул у самой двери и ушёл, окончательно сконфуженный.
Поездка в Аркадию была испорчена. Мать молчала. Она была оскорблена.
...Отец сидел неподвижно и мучительно думал. Наконец он сказал:
— Молодой человек проделал всё неумело и легкомысленно. Его можно пожалеть. Он на плохом пути.
Обида оказалась ещё более горькой, чем прошлогодняя. Через несколько дней пришла официальная бумага, на которой печатными жирными буквами было выведено:
«Свидетельство». Сбоку — «№ 655».
В нём сообщались баллы, полученные Павлом на экзаменах:
| Русский язык | 4 (четыре) |
| Арифметика | 4 (четыре) |
| География | 4 (четыре) |
| Остальные предметы | 5 (пять). |
Внизу печать секретаря педагогического совета.
В одну строку подпись директора (всё та же, неразборчивая).
Оказалось, не один математик снизил Павлику отметку.
Через два месяца отец подал прошение на имя попечителя округа с просьбой передать решение вопроса на новое рассмотрение педагогического совета одесской Третьей гимназии.
Ответ не заставил себя долго ждать.
«На прошение Ваше от 21-го сего августа, переданное господином попечителем округа на окончательное распоряжение педагогического совета вверенной мне гимназии, имею честь уведомить Вас, милостивый государь, что просьба Ваша не может быть удовлетворена за отсутствием вакансий в Третьей гимназии для учеников-евреев».
Семья стойко перенесла обиду. Но какая-то особенная тяжесть легла на душу взрослых. Только мальчик ничего не знал. По-прежнему смотрел на мир широко открытыми глазами, огромными прыжками через весь коридор скакал к себе в комнату, где было всё его богатство: книги, словари, записи. По-прежнему обожал музыку, свой цветущий «сад» и далёкие прогулки у моря.
Горе
Летом 1909 года Лина уехала погостить к сестре Лене в Москву. Они давно не виделись.
Но не прошло и двух недель, как в Москву пришла тревожная телеграмма: заболела мать. Сёстры немедленно выехали. Дорога казалась им бесконечно долгой.
Ранним утром поезд подошёл к перрону в Одессе. Сёстры стояли у окна и с тревогой ждали: встретит ли их кто-нибудь? Встречал Ося. Высокий, в белом студенческом кителе, он размахивал студенческой фуражкой и кричал:
— Жива! Жива! Жива!
Сёстры обняли кузена:
— Скажи правду: есть ли надежда? Как папа? А Павлик?
Ося ничего не ответил, взял вещи из рук сестёр.
Папа и Павлик ждали у открытой двери.
— Идите к маме, — сказал отец, — она вас ждёт.
Дочери робко остановились у кровати. Мать страшно изменилась, она лежала восково-бледная, измученная. Увидев дочерей, сказала изменившимся, глухим голосом:
— Устали с дороги. Завтрак для вас приготовлен... — и неожиданно умолкла.
Павлика к матери не впускали. Боялись заразить болезнью матери — дизентерией.
Дни и ночи проходили в сплошном страхе и беспокойстве за жизнь матери. Все спали одетые, бродили по комнатам, сталкивались в длинном коридоре.
Павлик был одинок. Он притих, не скакал больше по коридору. Его вещи и книги перенесли в спальню, подальше от комнаты «барышень», чтоб не беспокоить мать. Только «сад» Павла со всеми горшочками, цветами и зеленью оставался на месте. Новая помощница Фрося, появившаяся в эти тяжкие дни, добросовестно поливала их.
Мать умирала. Тихо, покорно, мучительно. Никто об этом не говорил и не хотел в это верить.
В жаркий июльский день в светлой, уютной гостиной появился длинный стол, на нём гроб...
Настал печальный день похорон. Рано утром приехала из Полтавы старшая дочь Анна. Сёстры ни на минуту не оставляли Павлика одного. Но мальчик всё искал отца и льнул к нему.
Дверь на лестницу стояла открытой. Кто-то из пришедших спросил:
— А дали ли знать в Ковно старикам родителям?
Павлик поднял глаза на отца. Мальчик, наверное, вспомнил дедушкин дом в переулке, высокого дедушку за конторкой и маленькую бабушку. Отец покачал головой и тихо сказал сыну:
— Нет, Павлик, никак не могу написать...
Похороны были скромными, цветов не полагалось. Но у матери Павлика, у самого изголовья, рядом с зажжёнными свечами в высоких подсвечниках, стояли с двух сторон два скромных горшочка с тёмно-красными розами. Их рано утром принёс из своего сада Павлик. Это были те самые розы, которые больше всего нравились маме.
Последние дни в Одессе
Сестра Лена настойчиво советовала отцу с Линой и Павликом переехать в Москву. Но не так-то легко решиться на такой шаг. В марте 1910 года, когда Павлику было 12 лет, семья окончательно и навсегда простилась с Одессой. Последние недели были заняты предотъездной суетой. Комнаты потеряли свой прежний жилой вид.
Тщательно упаковывались тетради, листки, заметки Павлика. О словарях и справочниках и говорить было нечего. Маленький толстый Ларусс был завернут в две бумаги: белую и коричневую. Карандаши, ручки, линейки — всё ехало в Москву. Ракушки с моря пользовались особым почётом. Коллекции минералов, альбомы с марками.
Погрузили вещи. В комнатах стало пусто.
Вещи отправлены. Знакомые, родные приходят прощаться. В квартире неуютно. Разговаривать тяжело. Павлик ушёл с «маленькой француженкой» прощаться с морем.
В последний день втроём поехали на кладбище.
— Павлик, — спросила сестра, чтоб рассеять его грустные мысли, когда они вышли из ворот кладбища, — каким было в последний раз море?
Павлик долго молчал. Потом тихо сказал:
— Оно было доброе, ласковое, набегали маленькие волны и как будто говорили: «Прощай, Павлик, прощай...»
Поезд уходил вечером. У окна вагона стояли втроём, прощались с близкими.
Поезд медленно двинулся...
— Прощай, Одесса!
В гимназии
Москва
В Одессе была привычная жизнь, устоявшаяся в течение семнадцати лет.
В Москве всё было непривычным. Заранее была снята меблированная квартира в три комнаты на Петровке. Но она была такой же чужой и ненужной, как и мебель, стоявшая здесь.
Хозяйничать было некому. К тому же Павлику предстояла операция, которую больше откладывать было нельзя.
Незадолго до этого в Москву переехала старшая сестра Анна с семьей.
На Арбате, в Серебряном переулке, находилась большая частная лечебница. В этой лечебнице Павлика должен был оперировать хирург Алексинский Иван Павлович.
После операции профессор Алексинский разрешил членам семьи дежурить у Павлика по очереди. Когда дежурила Анна, Павлику сделалось плохо. Анна перепугалась и побежала за медицинской сестрой. Павлик совсем расстроился, даже расплакался.
К вечеру приехал профессор Алексинский. К тому времени Павлик уже успокоился и держал в руках большую толстую книгу в тёмном переплёте.
— Что ты читаешь? — заинтересовался Иван Павлович.
— Это Менделеев, — ответил мальчик, — его периодическая система.
Профессор присел к Павлику. Наконец-то нашёлся настоящий слушатель, который тоже интересуется химией. Глаза Павлика заблестели. Профессор сидел, взяв Павлика за руку.
Сестра Анна была смущена: не слишком ли Павлик задерживает знаменитого хирурга? Но по улыбке, с которой профессор вышел из палаты, она поняла: всё в порядке.
Потом профессор Алексинский рассказывал, как его поразили глубокие познания двенадцатилетнего мальчика.
Павлик быстро поправился. Он купил план Москвы и принялся изучать его. До экзаменов он должен ознакомиться как следует с Москвой, для этого надо ходить по городу пешком. И Павлик ходил по Москве. Он не посещал ни музеи, ни картинные галереи. Всё это было впереди.
Но Москва была такой огромной.
Павлик начал с Кремля, пришёл к стене Китай-города, любовался Москвой-рекой, был в Александровском саду, он исходил Никитскую с переулками.
Ходил по Садовой. Через Ильинку, Никольскую пришёл снова на Красную площадь. Домой, на Петровку, он приходил очень усталый. Открывал своим ключом квартиру и — увы! — находил только записку-инструкцию, что ему делать и где ему оставлена еда.
Раз вечером он заявил:
— Больше сейчас осматривать Москву не буду. Буду читать. А главное, буду ходить к Леночке: очень хочется слушать музыку.
Сестра была рада. Она ждала его. Почти каждый день Павлик ходил к Лене и возвращался довольный: сестра играла ему Бетховена, Чайковского, Шопена.
Экзамены
Ранним утром в конце мая Павлик шёл на экзамен. Его провожала Лина, она искоса поглядывала на брата. О чём он сейчас думает? Вспоминает ли маму? Как он ходил с ней на экзамены...
Павлик прижался к сестре, взял её под руку:
— Здесь очень хорошо, правда?
Сестра улыбнулась:
— Да, Павлик. Я думаю, в Москве всё будет по-другому. Как хорошо, что удалось узнать о гимназии Кирпичниковой.
— Погоди, — остановил сестру Павлик. Вовсе не сестра приведёт его в гимназию, он сам покажет, как найти Крестовоздвиженский переулок.
Гимназия была вся на виду, точно поднятая сцена с массой артистов — мальчиков и девочек, больших и маленьких. Они были так заняты своими делами, что до зрителей им не было никакого дела. Они бегали по переулку взапуски, и только дребезжащий звонок мог загнать их в классы. Но в такой блестящий майский день не так-то просто это сделать. Заливается звонок. Смех раздаётся и во дворе и в здании...
И всё же на пришедших обратили внимание. Почему, несмотря на жаркий день, сестра вся в чёрном, а у мальчика на левом рукаве белой в чёрную полоску рубашке чёрная траурная повязка? У них кто-то умер?
Здание гимназии — бывший старинный помещичий дом с большим двором-садом. Павлик снял у входа соломенную кепку с чёрным козырьком. Сестра поправила ему волосы. Поднялись по лестнице. Вошли в большой зал.
Эта гимназия совсем не походила на гимназию в Одессе. Он сразу заметил и поломанный паркет, и жёлтые пятна на потолке. Двое мальчишек гонялись друг за другом, они подняли такую пыль...
Он потянул сестру за рукав:
— Тут, наверное, всё очень просто.
— Погоди. Надо найти твой класс, тебя будут экзаменовать.
Но спросить было некого.
Прошли по классам второго этажа. Огромные окна распахнуты прямо в сад. Воздуха много. Бросилось в глаза: плохонький столик учителя, поломанные парты...
Сестра волновалась, торопила Павлика. Третий класс оказался внизу. Скорей! Как бы не опоздать!
Странная возня происходила в самом классе. Посередине невысокой комнаты стояла учительница, скромно одетая, в сером ситцевом платье, с гладко зачесанными, слегка вьющимися волосами. Тихим голосом она уговаривала:
— Скорей! Скорей! Никак вас со двора не соберёшь. Комиссия вот-вот появится, а мы и на местах не сидим. Какой стыд! Скорей! Скорей!
При этом учительница, очевидно по привычке, не переставая моргала глазами и морщила добрые губы.
Ученики, разгорячённые беготней, пыхтя и толкая друг друга, старались поскорей войти в класс. Шли через дверь и сразу в два низких окна, которые выходили во двор. Молча они рассаживались по местам, стараясь подавить в себе радость встречи с чудесным майским днём. Они не хотели подвести любимую учительницу.
Павлик не выдержал, тихонько рассмеялся и, взглянув счастливыми глазами на сестру, сказал:
— Вот потеха! Да тут, наверное, очень хорошо.
Экзамен начался. Павел, услыхав свою фамилию, медленно поднялся, несмело подошёл к столу учителя, придвинулся к доске. Он выслушал вопросы и без малейшего волнения также спокойно ответил. Так же медленно и спокойно с серьёзным лицом пошёл на место.
В московской гимназии оценили и быстрое решение задачи, и то, что чистовой лист отличался от чернового лишь небольшой краткостью. Устные ответы Урысона показали, что познания его глубоки. По всем экзаменам Павел получил пятёрки. Павел Урысон был принят в четвёртый класс частной прогимназии Е. А. Кирпичниковой.
В семье ко всем пятёркам и отзывам экзаменаторов отнеслись спокойно. В Павлике все были уверены.
Сестра на радостях всё же побежала купить ему гимназическую фуражку. Правда, фуражка ему не шла. Но ничего не поделаешь, зато Павлик теперь гимназист.
Решили и ещё один вопрос: надо съехать с этой квартиры.
Лина с Павлом поедут на летние месяцы в Гунгербург. Это не так уж далеко. Проедут через Петербург. Их встретят родные. Надо Павлика одеть в летнюю гимназическую форму — серую полотняную косоворотку, серые брюки. Но в них Павлик какой-то неуклюжий.
Отец посмотрел на него:
— Ну, ну... — и только махнул рукой.
В Петербурге Павлик первым выпрыгнул из вагона. Костюм «на рост».
Ося улыбнулся добро, но, как всегда, немного насмешливо:
— Павел-Бромати, тебя не узнать!
Наконец в своей квартире
Сезон в Гунгербурге кончался. Наступили холодные дни, с Финского залива дули сильные ветры. Новую квартиру сняли на Маросейке.
Отец писал, не пора ли возвращаться в Москву. Ему хотелось поскорее устроиться в своей новой квартире. Дом Лобозева, № 13, на Маросейке. Ворот у него не было. Входили, как в переулок, шли по узкому тротуару, и перед глазами вырастал огромный дом в тупике. На втором этаже в одной из квартир Павлика с сестрой уже ждали старые знакомые — вещи, привезённые из Одессы. У мебели был недовольный вид, словно она попала по ошибке не туда, куда следует. Ещё бы! Квартира далеко не светлая, все окна упирались в стены соседних домов.
Лина сразу всё заметила, но стоит ли огорчать отца.
— Чудесно! — сказала она. — Мы у себя дома, что может быть лучше? И даже старый рояль «Бехштейн» стоит в углу.
Комнаты для Павлика не было. Он будет спать в спальне с отцом. И обещанного ученического столика тоже пока нет.
Отец прервал молчание:
— Нас осталось так мало. Мы не будем мешать друг другу.
Павлик подошёл к отцу.
— Конечно, папочка. Здесь ведь хорошо.
У отца разгладились морщины, он улыбнулся:
— В Москве квартир много. Найдём что-нибудь получше!
В кухне сидела приятная женщина. Она казалась печальной.
— Что случилось? — спросили её одновременно отец и дочь.
— Да как же, — ответила Дуняша, — хозяйки-то настоящей, оказывается, нету. А вы что? Сбежите на ученье да на работу, а ты сиди весь день одна да на стены гляди. Я так не привыкла.
— Ну что делать? — грустно ответил отец. — Будем жить, как можем.
А через несколько дней Дуняша придумала: она возьмёт к себе племянницу.
— Сколько ей лет? — спросила Лина.
— Да малютка — шесть, седьмой пошёл.
— Чего лучше! — обрадовался отец. — Пускай живёт, веселей будет.
Дуняша привезла девочку. Её звали Домаша. Она удивительно походила лицом и речью, старомосковской речью, на свою тётю. Иногда в забывчивости девочку называли Маленькая Дуняша.
Новенький
Павлик снова шёл вместе с сестрой. Теперь он знал, где помещается четвёртый класс, тот самый, в который можно войти в дверь и через два окна.
Сестра спешила на свои занятия. Она проводила брата до дверей класса и сказала ему:
— Павочка, ты не робей. Тут тебя никто не обидит.
Павлик кивнул:
— Иди, иди. Я один приду. Да я нисколько не боюсь.
И всё же Павлик робко вошёл в класс и остановился у самой двери. Все уже сидели на местах. Шум в классе был невообразимый. Класс был маленький. Павлик окинул его взором, подсчитал число парт. Их было всего восемь. По два ученика на каждой, значит, не больше шестнадцати. Почему же такой шум?
В это время открылась дверь и вошла классная руководительница Поликсена Ниловна. Павлик сразу её узнал: она часто моргала глазами, а губы морщились. Школьники радостно вскочили, здоровались, шум не унимался.
А Поликсена Ниловна, продолжая всё так же моргать и морщить губы, сказала очень тихо:
— Ну сколько же можно здороваться? Уже во дворе со всеми здоровались. Тут вот новенький к нам пришёл, у двери стоит, надо его посадить.
Опять крики:
— Новенький? А как его зовут?
Неожиданно для Павлика один мальчик в первом ряду поднялся и приветливо сказал:
— Поликсена Ниловна, у меня свободное место. Пожалуйста, посадите его ко мне.
Классная руководительница не сразу ответила. А Павлику так захотелось иметь своим соседом этого голубоглазого мальчика, на вид такого тихого и скромного.
— Это хорошо, Вася. Сядь, Павлик, к Васе, — сказала Поликсена Ниловна.
Павлик приободрился. Быстрыми шагами подошёл к своему месту, положил портфель на парту, вынул из него своё школьное имущество. И в это время услышал слева тихий голос:
— Павлик, я тоже твой сосед. Меня зовут Андрей.
Павлик посмотрел в другую сторону.
Мальчиков разделял проход, но всё равно это был сосед. И этот сосед сразу понравился Павлику. В противоположность светлому Васе, сосед слева был тёмный, с чёрными волосами, загоревший, как будто всё лето жарился на солнце. И то, что сосед слева тоже приветливо к нему обратился, обрадовало Павлика. Ему стало сразу привычно и уютно. Показалось, что он давно учится в этой гимназии и давно знает своих соседей — Васю Попялковского и Андрея Обуха.
Открылась дверь, и вошла сама Елизавета Александровна Кирпичникова, директор гимназии. Дети вскочили, поздоровались, но совсем по-другому, не так, как с классной руководительницей. Всё было кратко, без всякого шума. Гимназия была особая, и директор тоже был особенный. Елизавета Александровна была высокая, чуть сутулая, очень просто одетая. Даже причёска была скромная: аккуратно выложенные на затылке косы, прикрытые широким чёрным бантом. Со спокойным и строгим лицом она поздравила школьников с началом занятий. Так же спокойно прозвучал ответ четвероклассников.
В классе было мало учеников. Синие, не по форме костюмы для мальчиков и платья для девочек. И учителя были в штатском. Всё здесь было построено на взаимном доверии и уважении.
Когда преподаватель вызывал Урысона, Павлик медленно вставал и стоял на месте, пока учитель не приглашал его к учительскому столу или к доске. Отвечал Павел вдумчиво, было видно, что он хорошо разбирается в том, о чём говорит. Он не искал слов, они сами приходили на помощь. Выражение лица Павлика, вся его плотная фигура выражали спокойствие. Ни тени волнения не было в ответе новичка.
— Достаточно, — говорил преподаватель и брался за свою записную книжку.
Дальнейшее Павла не интересовало. Впечатление от его ответа, произведённое на педагога, на учеников, заметка в маленькой записной книжке учителя 1 — всё это не занимало мыслей мальчика.
Ученики начинают интересоваться Урысоном.
— Поль, — спрашивают его, — что ты знаешь лучше всего?
Павлик пожимает плечами:
— Наверное, французский и арифметику.
— А немецкий?
— И немецкий.
— А географию?
— И географию.
— А историю?
Павлик улыбается, так что сверкают белые зубы, а глаза сияют:
— Тоже.
Павлик сам не замечает, как постепенно приобретает авторитет в классе. Он готов помочь всем и делает это охотно. К этому времени Павлик уже знал французский, немецкий и английский языки. А в последнее время вместе с отцом брал уроки итальянского.
Жизнь Павлика в Москве налаживается
В классе заговорили о предстоящих в мае экзаменах. Ученики четвёртого класса сдают их впервые. Будут представители учебного округа. Того самого учебного округа, который воюет своими придирками с частной гимназией Кирпичниковой. Московский учебный округ с трудом терпит это «крамольное» учебное заведение.
Ученики четвёртого класса очень волновались. Павлик о предстоящих экзаменах вообще не думал.
Лина несколько раз спросила брата:
— Почему ты не готовишься к экзаменам?
— А что надо делать? — удивился Павлик. — Всё, что задают, я делаю.
— Но надо повторить всё пройденное. Так же все делают.
Павел с этим не соглашался:
— Я во всём этом давно разобрался.
Отец молча кивает головой. Он знает сына, доверяет ему.
В классе Павлика тоже спрашивают:
— Павлик, как ты готовишься к экзаменам?
Он чистосердечно признается:
— Не знаю, как надо готовиться. Если б что-нибудь задали, я бы сделал.
— А повторять?
— Что повторять? Старое?
Павел помогал классу. Он всегда готов был помочь. И одному товарищу, и целой группе. Лишь бы его слушали. Лишь бы во время объяснений не хлопали нетерпеливо по плечу:
— Поль, слушай... Ну же, Поль...
Он вставал, добродушно хлопал по плечу того, кто ему мешал, и говорил:
— А ты погоди. Я тебе потом объясню.
Иногда Павла просили подсказать, хотя все знали, что Павлик никогда не подсказывает.
— Это ни к чему. Я тебе лучше объясню потом отдельно.
Лина поняла, что говорить с Павлом об экзаменах бесполезно.
— А знаешь, Павлик, — сказала она как-то загадочно, — я что-то знаю...
— Скажи, Линочка, — просил сестру Павлик.
— В это лето мы поедем с тобой в очень интересную страну — в Финляндию.
Павлик вскочил, завертелся волчком на каблуке. И вдруг бросился к географической карте, к своим книгам, справочникам, путеводителям. Снова в руках толстый розовый Ларусс.
Павлик готовится к поездке, как взрослый. Его интересует география страны, история, культура и множество других вещей.
Финляндия
Станция Иматра.
Все бегут смотреть водопад. Наверное, это близко. Прямо с поезда, не заботясь о жилье, с вещами направляются к водопаду. Поворот за угол — и неожиданно перед глазами изумительное зрелище.
— Водопад! Водопад! Иматра!
Павлик долго молча смотрел на живую массу воды, которая неслась перед ним. Смотрел напряжённо, радостно.
Вода неслась откуда-то сверху, неведомо откуда, широким потоком. Брызги летели во все стороны, сияли алмазами. А вода разливалась, образуя реки. Но это были особенные реки, их гнала бешеная сила. Клубы вспенённой воды казались снегом, чистым белым снегом. Жара сменилась прохладой.
Заночевали в какой-то чердачной комнате. Шум водопада доносился убаюкивающей песней. К ночи поднялся ветер. Он проникал во все щели ветхого домика, у него была своя песня. Обе песни слились в одну.
К вечеру сестра с братом уже подъезжали на пароходе к маленькой пристани.
Это и был Нодендаль.
Люди в Финляндии показались очень спокойными и вежливыми. Никто не спешил, осторожно помогали подняться на пристань Павлику, потом сестре. Рядом поставили багаж. Особенным покоем веяло от реки, неяркой зелени и светлого, в лёгких тучках неба.
А тут ещё и неожиданная встреча. Со скамейки сквера поднялся знакомый врач из Москвы. Павлик радостно подбежал к нему.
Больше всего Павлик любил кататься один в лодке. Врач, Семён Маркович, жил ближе всех к пристани. Он помогал отвязывать лодку, налаживал весла в уключинах. С Павлом был договор. Он должен держаться берега, чтоб его было видно.
И Павлик держал слово. Всегда, как и было обещано, видна была лодка с одиноким гребцом в белой кепке. Он грёб легко, мерно взмахивая веслами.
В пятом классе
И опять осень. Задолго до первого звонка собираются ученики. Визжит калитка в заборе со стороны Крестовоздвиженского переулка. Бесшумно открывается калитка в воротах со стороны Знаменки. Не видались каких-нибудь три месяца, а радости, как после долгих лет разлуки.
— Павлик Урысон пришёл! Да как вырос!
Павлика называют по-разному: и Паша, и Поль, и Пауль, и Павлик-журавлик. Он на всё откликается, поворачивается во все стороны, приветливо здоровается, улыбается. Он доволен: пришёл в свою родную гимназию.
Маня Антокольская, одноклассница Павлика, удивляется, почему он откликается на все имена и откуда он знает, что это именно к нему обращаются.
Павлик хочет ответить, но в разговор вмешивается маленькая девочка с длинной косой:
— У человека должно быть одно имя: настоящее. Я бы не позволила, чтоб меня звали, как кому вздумается.
Павел улыбается, глядя вниз на малышку, машет рукой: не всё ли равно!
Павлик заходит в класс одним из последних. Класс новый, наверху. Комната высокая, с большими окнами. Но это не всё. Главное — нет больше парт. Выросли. Стоят узкие столики для двух учеников.
— Павлик! — зовёт его Вася Попялковский.
— Павлик! — несётся с другого конца.
Павлик рад друзьям. Он спешит занять свое место рядом с Васей. Слева — проход, и к нему поворачивается Андрей Обух. Всё как было. Всё как полагается.
По приезде из Финляндии жизнь Павлика изменилась. Лина вышла замуж, и семья была занята подыскиванием двух квартир в одном доме. Такие квартиры нашли на Тверской, в Старопименовском переулке.
Квартиры были одна над другой. Отец с Павликом поселились на втором этаже, Лина с Семёном Марковичем — на третьем. Павлик занялся проводкой электрических звонков.
Теперь Павлик был больше предоставлен самому себе. У него снова появилась отдельная комната, небольшая, но светлая. Купили ему обещанный гимназический стол. Столяр сбил из досок большую книжную полку, на которой Павел разместил книги, словари и справочники. Теперь Павел спал в своей комнате, чтоб не мешать отцу. Впрочем, и спальня отца помещалась близко, так как вся квартира была небольшая, с узким коридором.
Полезно повидать свет
Этот вопрос надо было решить, и решался он всей семьёй и в присутствии Павлика.
Лина давно решила, что ей необходимо летом поехать за границу. Она интересовалась постановкой школьного дела в Германии и Австро-Венгрии.
А Павлик? Павлик, по мнению семьи, был в том возрасте, когда полезно повидать свет, расширить кругозор.
Между сестрой и братом давно определились сердечные отношения. Но вместе с тем Павлик знал, что сестру надо слушать. Да особенно-то и слушать не приходилось, и недоразумений никаких не было.
Сейчас вопрос состоял в том, как примирить интересы Павлика и Лины в предстоящей поездке.
Павлик сидел за столом спокойный и серьёзный.
— Мы уже ездили в Гунгербург и в Финляндию. Всё было хорошо, — сказал он.
С этого дня Павел начал готовиться к поездке. Он собирал книги где мог — в библиотеках, у родных и знакомых семьи.
Появились тетради с новыми записями. Павел изучал три страны: Германию, Австро-Венгрию и Швейцарию.
Берлин
В Берлин поезд пришёл в шесть утра. Вещи оставлены на вокзале, в камере хранения.
Улицы поливают и усердно моют. В кафе кельнеры выносят столики на улицу. В гостиницах ещё нет свободных комнат. Разъезд начнётся не раньше 8–10 часов. Но большие магазины, занимающие целые дома, с длинными вывесками, уже открыты. Один такой магазин на Фридрихштрассе. В дверях стоит элегантный молодой человек, он смотрит на Павлика и любезно предлагает:
— Для молодого герра в фирме «Пек и Клоппенберг» будет предоставлено решительно всё, что ему будет угодно.
Павлик снимает свою кепку и благодарит. Павлик выехал из Москвы без пальто. Ему необходимо простое, скромное пальто и хороший костюм.
— Пожалуйста, выбирайте! Это ваш размер. Давайте мерить!
Тут и произошло нечто необычайное. Лина боялась, что Павлик простудится без пальто, и поддела ему под френч тёплый и длинный белый шарф. Она принялась его разматывать...
В большом зале было пусто. Приказчики молча стояли у стен. Павлик спешил, ему хотелось поскорее выйти на улицу. Он стал кружиться и отходил в совершенно пустом зале всё дальше и дальше от сестры. А белый шарф повис в воздухе и отражался во всех зеркалах и блестящем паркете как подвесной мост.
— Павлик, иди ко мне, — позвала его сквозь смех Лина.
Конечно, и приказчикам было смешно. Но они и виду не подали. Дисциплина в фирме «Пек и Клоппенберг» была превыше всего.
Сам Павел ничего не заметил. Он был рад, что освободился наконец от ненавистного ему шарфа.
Берлин поразил своими монументальными зданиями, огромными памятниками рыцарских времён со множеством фигур со всех четырёх сторон. Мавзолей в Шарлоттенбурге, усыпальницы. Всё монументально, огромно. Транспорт — трамваи и омнибусы. Изредка, как исключение, можно увидеть машину: грузовик или автомобиль. На мостовой — лошади. Имеются фиакры.
В руках у Павлика путеводитель. Он хорошо говорит по-немецки, но у него строгий принцип: не прибегать ни к чьей помощи.
Старинный университетский город Иена
Иена — старый город. Его университет основан в 1558 году. Традиции неукоснительно соблюдаются. Старинное, в сводах, университетское здание; всюду свет, чистота, распахнутые настежь окна, запах цветов. Двери университета широко раскрыты для всех. Лекции могут слушать все желающие.
Павлик, держа соломенную кепку в руках, с чувством благоговения вошёл в большой вестибюль университета с двумя рядами длинных удобных скамей со спинками.
Остановились у открытой двери актового зала. Старинные скамьи, отполированные до блеска. Маленькие окошки под самым потолком. Громадные портреты в золочёных рамах.
Низкая дверь вела во двор здания. На стене у двери висел старинный фонарь. В большом университетском дворе как будто ничего не изменилось почти за четыреста лет. Посередине двора возвышался заглохший колодец. У стен — памятники.
На улицах Иены тихо. Здесь все учатся или учат. А если настал час обеда, то обедает одновременно всё студенчество и профессура. Значит, Павлика одного можно пустить погулять по городу.
Только вот что. Они как раз в это время проходили мимо кабачка, в котором собирались студенты. Несколько студентов уже сидело у самого входа за маленьким столиком. Их сразу можно было узнать по приплюснутым фуражкам, разноцветным узким полоскам на невысокой тулье.
— Они отчаянные выпивохи, фехтовальщики и драчуны. Ты понимаешь, Павлик, что их надо избегать...
Мальчику нравилось бродить по незнакомому городу. За обедом он восторженно говорил о реке Заале, на которой стоит город.
Сестра рассказывала Павлику об университете. Как там учатся, как дружат, как отдыхают, как работают, чтобы прокормить себя.
Они с сожалением расстались с этим городом.
Франкфурт-на-Майне
Франкфурт-на-Майне раскинулся по обоим берегам реки Майн. Можно было подумать, что город представляет собой продолжение Берлина: длинные широкие улицы, большие магазины, множество ресторанов и кафе, театров и кино. При этом жизнь во Франкфурте несла в себе много провинциального, текла размеренно и спокойно. Старая часть города пленяла своей древностью.
Во Франкфурте была ещё не застроенная часть города — ровная дорога с протянутой телеграфной линией. Павлику очень нравилась эта дорога, и он далеко ходил по ней.
Но ещё больше была по душе старая часть города. Узкие улочки, настолько узкие, что люди на верхних этажах могли чуть ли не подать руку друг другу; красивая окраска домов. Дома, различные по стилю, стоят вплотную. Крохотные площади, на них высокие памятники. Вот и знаменитый Франкфуртский собор — «Дом», который виден со многих улочек и переулков, показываясь каждый раз какой-нибудь новой своей деталью.
Старая часть города во Франкфурте могла служить живым музеем. Но во всех домах жили люди. В каждом на окнах цветы, занавески. На крыше одного дома даже расцвёл сад, и ступеньки вели к беседке.
Наконец Павлик попал в Ботанический сад, который назывался здесь «Пальмовым садом». Вероятно, потому, что в нём было множество пальм всевозможных видов.
В большой оранжерее расцвела ночью виктория-регия. Об этом все кругом говорили. Растение очень капризное, требующее специального ухода.
Павлик пробивается вперёд: ему надо рассмотреть это редкое явление.
Наступил последний день во Франкфурте. Осталось посетить ещё два города: Штутгарт и Мангейм. Потом замечательный Рейнский водопад, о котором Павел столько наслышался, и впереди — Швейцария!
Штутгарт показался сестре очень скучным. Но Павлик нашёл кое-что интересное для себя. Улицы не имели названий. У них были буквы и числа. Весь город представлял собой прямоугольник, на котором стояли кубы — кварталы. А нумерация улиц была примерно такая: А-1, А-2, А-3, А-4. Лина нашла это скучным. Павлик держался другого мнения. Он очень любил точность. Его радовало всякое новшество и упрощение. А здесь использовался весь алфавит, даже его последние буквы. И Павел решил, что это хорошо задумано, потому что в этом залог неизменного, вечного. Павлик доволен, ему нравится. Сестра и брат уже не спорят.
Наутро снова в путь. Брат и сестра любили сборы: что ждёт их впереди? Вот только вещи, с ними одна морока. Но они могут понадобиться в Швейцарии. Большой сундук. Лина и Павел смотрят на него враждебно. А в руках маленькая шляпная коробка с секретом. Внутри коробки рыжая бархатная «болванка», чтоб маленькая шляпка могла спокойно разъезжать по дорогам. Это устроил Павлик. Фанерная коробка со шляпкой была надежней. Её, как бочку, можно было катать по любым дорогам.
Радость последнего дня состояла всегда в том, что, посмотрев враждебными глазами на багаж, его можно быстро отправить дальше. На этот раз прямо в Швейцарию.
Павлик любовно смотрит на свой туго набитый рюкзак: хоть и тяжёлый, зато руки свободны.
Довольна и сестра. Им весело, легко, беззаботно. Впереди — новые дороги.
Рейнский водопад
На станцию Нейгаузен, которая находится вблизи водопада, Павлик с сестрой попали только к вечеру. Какое-то необычное волнение охватывало людей при неумолчном шуме гиганта водопада.
Надвигалась темнота. Зажглись скупые огоньки. В нескольких маленьких отелях свободных мест не оказалось. Надо было искать пристанище в немногих домиках, что у водопада. Но Павлик хотел поскорей увидеть водопад.
— Скорее! — торопил он сестру.
Но пришлось уступить ей, отыскать сначала ночлег. Устроились в мансарде с покатым потолком. В слуховое окошко можно было просунуть только голову. Дуло из всех щелей; водопад ревел. Павлик был возбуждён, он не хотел ни есть, ни спать.
— Ну что ты, Линочка, — говорил он, — это мы всё успеем.
Сестра уступила.
Приветливая хозяйка советовала пойти. Она не запрёт входную дверь. А водопад освещён, и публика всю ночь толпится у водопада.
Вот уже пройдены все мостки, дальше идти нельзя, всё кругом дрожит — страшно. Сестра бессознательно берёт Павлика за руку, и он не отнимает своей руки. В падении водопада нет ритма, клокочет яростная водяная стихия. Иногда в каком-то просвете виднеется большой дом, иногда крест. Но где этот крест — на церкви или на какой-то часовне? Павлик задумчив, он не сводит глаз с клокочущей воды. Сестре кажется, что все кругом молчат. А может быть, так только кажется, потому что стоит неистовый грохот.
Лина говорит Павлу на ухо:
— Идём. Хозяйку задерживаем. Она, наверное, хочет спать.
Павлик кивает. Всё так же взявшись за руки, оба идут обратно по дрожащим мосткам. Шум не умолкает, он словно гонится за ними.
Дверь открыта, на лестнице горит крохотная лампочка, мансарда дрожит. Павлик вспоминает:
— Линочка, помнишь на Иматре? Водопад, чердачная комната.
Что может быть лучше этой комнатёнки рядом с Рейнским водопадом! В ней нет света, но он и не нужен: отражённый свет падает от огней водопада.
Утром в слуховое окно заглянул весёлый луч солнца. Неужто день? Снова этот зовущий шум. И снова без еды Лина с Павликом бегут к водопаду. При ярком свете не страшны ни покачивающиеся мостки, ни скользкие ступеньки. Брызги летят всё выше, солнце сверкает в них.
Открытка от 7 июля 1912 года. Павлик писал отцу:
«Дорогой папочка! Рейнский водопад — самое красивое, что я когда-либо видел. Открытка не даёт никакого представления о нём. Тем не менее спрячь её, пожалуйста, для нас. Павел».
Наконец Швейцария
Раннее утро. Лина с Павликом идут на станцию Нейгаузен. Рейнский водопад позади. Уже не видны его вздыбленные гребни. Шум доносится всё слабее. Водопад словно прощается с путниками и, быть может, посылает им прощальный привет разноцветными брызгами, сверкающими на солнце. Всё! Больше его не слышно.
Впереди станция Нейгаузен, маленькая, тихая. Пассажиров много, но никто не суетится, не спешит. Может быть, люди под впечатлением увиденного. У билетной кассы тоже никто не толпится. Поездов на Швейцарию много.
Сестра даёт брату деньги и просит:
— Бери билет до какой-нибудь станции недалеко отсюда. А там пойдём пешком, интересней будет. Устанем — переночуем в горах, какой-нибудь маленький отель найдётся. Ты будешь стоять в очереди, расспроси немцев, они знают. Кассира тоже можешь спросить.
Павлик перестал утвердительно кивать. Сестра понимает, в чём дело:
— Тебе не хочется говорить с людьми?
Брат смеётся, глаза блестят, но он ничего не отвечает. Сестра осталась с обоими рюкзаками, один на спине, второй в руках. Она издали наблюдает за братом.
Он вышел из очереди и стал перед большой железнодорожной картой. Сейчас, никого не спрашивая, он сам найдёт станцию, до которой возьмёт билеты. Он уже высчитал и километры. Павлик стоит один перед огромной картой и кажется совсем маленьким. Затем он быстро и уверенно побежал обратно к своей очереди.
Не спеша передвигаются маленькие вагоны по узким железнодорожным путям Швейцарии. Белые занавески хлопают на окнах. В вагоне тихо и прохладно. Незаметно проходит время. Павлик внимательно следит по справочнику. Неожиданно встаёт и достает оба рюкзака с верхней полки.
— Сейчас будет наша станция, — говорит Павел.
Несколько шагов брат и сестра идут вместе со всеми пассажирами. Потом Павлик, всё ещё не вынимая пальца из полуоткрытого справочника, сворачивает на боковую дорожку, увлекая за собой сестру. Они поднимаются на лесистый холм. Сестра, ни о чём не спрашивая, послушно идёт за ним. Она вполне полагается на Павлика.
Мелкий кустарник переходит в лес. Дорога гористая, петляет. Порой трудно пробираться вперёд. Солнце поднялось, становится жарко. Кругом ни единого человека.
— А я вижу какую-то скалу, — говорит Лина. — Может быть, мы там отдохнём.
— Посмотрим, — многозначительно отвечает Павлик.
Невысокая скала несколько отступает от дороги, поэтому она сразу и не видна.
— Ой, как замечательно! — шепчет сестра.
В скале выбит большой белый мраморный крест. У подножия — венок из бронзы в мелких цветочках. Ещё ниже — постамент, красивый серый мрамор. И так неожиданно по-русски:
ДОБЛЕСТНЫМ СПОДВИЖНИКАМ
ГЕНЕРАЛИССИМУСА
ФЕЛЬДМАРШАЛА ГРАФА СУВОРОВА
РЫМНИКСКОГО КНЯЗЯ ИТАЛИЙСКОГО,
ПОГИБШИМ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ЧЕРЕЗ АЛЬПЫ
В 1799 ГОДУ.
Это всё Павлик. Оба молча постояли у памятника и, не сговариваясь, молча пошли дальше.
Они знали и помнили беспримерную историю перехода русских войск через Альпы. И вдруг всё ожило: солдаты, больной старик Суворов.
Они шли уже несколько часов. Ни жилья, ни людей. Лина начала беспокоиться:
— Какая странная дорога! Неужто по ней не ходят? А если настигнет ночь?
Но Павлик был спокоен:
— Ну что ты! До ночи ещё далеко. Только до чего же есть хочется.
Они уныло брели дальше. Их уже не радовали ни горные утёсы, ни ключи, сбегавшие с гор, ни тёмные ущелья, ни зелёные долины.
— Погоди, — неожиданно остановился брат. — Вон край крыши. Может быть, там дом.
И Павлик побежал вперед.
— Да, да, — послышалось с горы. — Только небольшой, но это не хижина, а настоящий дом.
Появилась надежда. Но не каждый дом — отель. Не в каждый дом примут людей на ночь. Не повсюду и за деньги накормят. Может быть, у них самих на сегодня ничего не припасено. Нелегко в горах достать еду.
Да, это был маленький отель. Сестра объяснила, что мальчик — её брат. Они голодны, хотели бы поесть и, если возможно, получить комнату переночевать.
— Да, да, всё возможно.
Хозяевами скромного отеля были старики — муж с женой. На подмогу явилась молодая женщина — их дочь. На кухне затрещали поленья. Запахло жареным мясом. Слышно было, как разбивают яйца.
Дочь убрала комнату и ласково пригласила:
— Пожалуйста! В кувшине, на умывальнике, свежая вода. Обед скоро будет готов.
Комната скромная, с двумя старинными деревянными кроватями. Умывальный столик, два стула. Из открытого окна чудесный вид на горы, чуть подёрнутые туманом, на снеговую линию вдали, на синее-синее небо.
За обедом была только своя семья. Обед был самый простой, он соответствовал скромному дому.
Спать легли рано, как только стемнело. В доме было очень тихо, других приезжих, очевидно, не было.
Лине показалось, что она спала совсем недолго. Проснулась — уже светало. Проснулась от сильной стрельбы. Выстрелы отдавались страшным эхом в горах.
Лина присела на кровати. Что бы это могло быть? Она прислушалась. Страшно. Стрельба не прекращалась. Единственный дом в горах, не следует ли разбудить Павлика и скорей отсюда уходить?
Павлик спросонья не сразу понял, в чём дело. Посмотрел в окно и пришёл в себя:
— Да это учебные занятия. Швейцарская милиция.
Он повернулся к стене и сразу уснул.
У Швейцарии нет морских границ. Зато много озёр. И все они соединены между собой. Самое излюбленное место туристов — Фирвальдштатское озеро. Павлик с сестрой жили на берегу озера в Люцерне. Много ездили но окрестностям.
В Люцерне знаменитый памятник льву. Швейцария в древности называлась Гельвецией. Памятник высечен в скале. Сверху на латинском языке надпись: «Гельвецийская верность и доблесть».
Лев лежит. В обнажённом оскале зубов почти человеческое страдание. У памятника всегда толпится народ.
Путешествие по городам Швейцарии не было очень утомительным. Жизнь страны была спокойной, размеренной. Не слышно было ни громкого говора, ни окрика, ни песни. Никто не тащил тяжёлой поклажи, не возился с багажом. Не было машин. Медленно двигались экипажи, и лёгкое цоканье лошадей гармонировало со всем жизненным ритмом страны. Но именно Швейцария была прибежищем русских революционеров. Нигде они не чувствовали себя в такой безопасности, как на швейцарской земле. [Класс! :) — E.G.A.]
Павлик путешествовал со своим «Бедекером» (путеводителем). В Берне он прямо побежал к каменному барьеру, за которым притаился ров. Павел, конечно, вычитал о нём в своём путеводителе. Перед барьером стояли стулья. Во рву — медвежата. Пресмешные, они становились на задние лапы и выпрашивали угощение. Павлик направился в ближайшую булочную. Продавщица поняла:
— Это вам на всю монету для медвежат? — и посоветовала, что мишки едят охотнее всего.
Медвежата в центре столицы, под открытым небом — в этом характер страны того времени, спокойной и уютной. Несколько мелких монет за стулья. Медвежата ждали людей, и люди приходили к ним с угощением.
В горах
Сестра сказала Павлику:
— Знаешь, времени до конца твоих каникул осталось мало. Надо поехать отдохнуть. Ты помнишь, мы говорили о Беатенберге. Он в горах. Обратно поедем другой дорогой. Ещё насмотримся.
Снова радостно готовились в путь.
А вот и подножие горы, канатная железная дорога. Неужели прямо сейчас в неё можно сесть? Над снегами, над скалами, над лесами протянуты стальные тросы, по которым один вагончик скользит вниз, другой вверх. Даже снизу смотреть на это страшно.
Павлик счастлив. Он с восторгом смотрит на новый вид транспорта, и ему не терпится поскорее погрузить вещи и усесться самим.
Всё прекрасно. Можно смотреть вверх и вниз... Меняются краски, воздух, ощущения. Сестра поглядывает на Павлика. Он восхищён, оборачивается во все стороны. Но глубокая морщинка легла на его детском лбу. Какая-то мысль занимает мальчика.
Беатенберг. Комната нашлась небольшая, но уютная, весёлая. Юнгфрау приветствовала москвичей своим белым нарядом, она сияла на утреннем солнце тысячами блестящих снежных алмазов. Здесь были уже другие люди. Не путешественники с путеводителями в руках, а отдыхающие.
Беатенберг в 1148 метрах над уровнем моря. Высоко. Брат с сестрой прошли ледник, в котором была вырублена широкая дорога. По ней проехал экипаж с четвёркой лошадей.
С высоты меж расщелин несётся бурный поток. Они шли по узкой дорожке у самой кручи, держась за невысокие перила.
Трудолюбивые швейцарцы много сил и средств затрачивали на то, чтобы украшать свою страну. Но это оправдывалось: страна была наводнена приезжими. Возвращались все вложенные капиталы и труды.
Лина с Павликом часто гуляли в окрестностях Беатенберга. Эйгер, Мёнх и Юнгфрау всюду сопровождали их.
Вечерами в скромном беатенбергском доме бывало очень уютно. В небольшой гостиной собирались отдыхающие. Это были люди разных стран, возрастов и занятий, но публика в основном скромная. Эти люди любили природу. Это объединяло их. Любителям музыки предоставлялся неплохой инструмент — рояль. Слушателей было достаточно. Многие не прочь были и потанцевать. Павлик к ним не примкнул, хотя девочки не раз приглашали его. Очевидно, одесские уроки танцев Павлу не пошли на пользу.
И всё же Павлик завоевал уважение этого общества. А произошло это вот как. В доме была открытая терраса, и на ней площадка, окружённая деревьями. Вечером на террасе сидели. Сквозь открытые окна часто слушали музыку. А на площадке стоял большой телескоп. Было несколько человек, очевидно сведущих в астрономии, которые часто подходили к нему. Они разговаривали между собой, временами спорили. Однажды и Павлик подошёл к телескопу и долго смотрел на звёздное небо. И с тех пор вытащить его оттуда можно было только с большим трудом.
В Беатенберге была библиотека и зал для чтения. Павел попросил у сестры денег и принёс несколько книг на немецком языке. Прошло некоторое время, и Павлик скромно, но с полной уверенностью мог разговаривать со спорившими у телескопа. Так он в числе равноправных вошёл в группу астрономов скромного беатенбергского дома.
Случалось, что Павлик задерживался у телескопа позже других. Иногда уже все давно отправились спать, а Павлик оставался один у телескопа. Наверху, на высокой горе, в такой поздний час было холодно, поднимался ветер, по-осеннему шумели деревья. А мальчик был один на площадке. Старый слуга Иоганн даже прикрывал дверь. Сестра приходила звать Павлика, но он умолял:
— Сейчас, сейчас, ещё немного...
Иоганн уверял, что он не ляжет спать, пока молодой человек занят у телескопа.
Только уговором — жаль старика, ему пора отдыхать, а он его задерживает — удавалось увести Павлика с площадки.
В последний вечер, когда брат с сестрой перед отъездом со всеми прощались, многие сердечно и с уважением обменялись с Павликом адресами.
Тироль
Из Беатенберга уезжали очень рано. Разбудил телефонный звонок. Звонил старик Иоганн:
— Доброе утро! Уже пять часов. Через час за вами приедет тачечник.
— Доброе утро! Благодарю вас.
Лина посмотрела в окно. Какая досада! Вместо яркого солнца, голубого неба и вечно юной Юнгфрау кругом всё серо, туманно, льёт проливной дождь. Вот тебе пешеходная прогулка по Тиролю, на которую возлагалось столько надежд.
— Павлик, вставай! Надо спешить! Дождь льёт. Придётся доставать другие вещи на дорогу.
Павлик с трудом продирает глаза, поднимается на локтях поближе к окну и внимательно смотрит, что творится на небе.
— Неутешительно! Дождя хватит на всю поездку по Тиролю. С избытком. Даже останется на дальнейшее.
Иоганн трогательно прощается с путешественниками за руку, желает счастливой дороги. Павлик несколько раз оглядывается на гостеприимный дом. Иоганн успел надеть на телескоп плащ особенного устройства, и он виднеется на горе последней точкой. Они спускаются с тропинки к канатной дороге.
Вокзалы рядом — канатной и железной дороги. Публики немного, все в плащах с капюшонами. Настроены бодро, как будто дождь идёт где-то стороной.
Сестра говорит Павлику:
— Надо сдать вещи до Штутгарта. Оставим себе рюкзаки и посмотрим, что будет дальше. — Она уходит с тачечником.
Павел увидел на станции телескоп, высунувший свое мокрое «рыло» из плаща, и прильнул к нему с противоположной стороны.
Опять легко и весело. Вместо багажа одна тоненькая квитанция. Но Лина вернулась ещё с одним сообщением, которое Павлику совсем не по душе:
— Дождь зарядил надолго, так все говорят. Я сговорилась с хозяином легковой пролётки, и мы поедем. — Но сестре хочется, чтоб Павлик не чувствовал себя обиженным: — Мы поедем не в закрытом экипаже, а в открытой пролётке. Дождя нам хватит. По спине будет хлестать достаточно. А хозяин — молодой славный швейцарец. Он остановится где захочешь.
Поехали. Дождь усилился. Но Тироль очаровательно романтичен в любую погоду. Тянутся Тирольские Альпы. Как хотелось бы побродить по хвойным и буково-хвойным лесам! Всюду видны если не дорожки и не тропки, то тайнички под деревьями.
— Поедем, пожалуйста, вот по той лесной стёжке, — просит Павлик хозяина пролетки, — может, проберёмся.
— Попробуем, — весело отвечает возница. Он доволен, что его седокам нравится Тироль.
Альпийские цветы, наверное, даже сгустили свои краски под дождём. От этих ярких цветов нельзя глаз оторвать. Запах какой-то особенно лёгкий, точно пьёшь его, чувствуешь на губах. Молодой человек оборачивается с козел. Лицо всё мокрое. Голубые глаза блестят под дождём.
— Собрать букет?
— Пожалуйста, — просит сестра.
Соскакивает и Павлик:
— А я засушу на память о Тироле.
Открытая коляска катит всё дальше и дальше. Одни картины сменяются другими. И Альпы не уходят. А цветы кажутся всё ярче. И запахи леса при дожде проступают ещё явственней.
— А если б мы шли пешком, сколько бы мы ещё увидели. Пойдем немножко, а? — просит Павлик.
— Идите, идите, — говорит швейцарец, — а я тихонько поеду за вами. Только далеко от дороги не уходите. А то ещё потеряетесь.
— Будем аукаться, — смеётся Павлик.
— Здравствуй, тирольский лес!
Вена
Путешествие подходило к концу.
В Вену поезд прибыл поздно, в десять часов. Сестра волновалась: не пришлось бы ночью ходить по гостиницам искать ночлег.
К Лине подсела какая-то женщина, дала ей бумажку с номером телефона, фамилией, адресом и сказала:
— Вам будет трудно искать ночью в Вене ночлег. Город рано засыпает. Позвоните по этому телефону — Гартман. Вам будет очень удобно. А заплатите вы не дороже, чем в гостинице.
Сестра поблагодарила, но как добраться по данному адресу?
Поезд остановился на плохо освещённой платформе. Три мощных удара колокола. Вена! Под колоколом важный усатый обер-кондуктор. Все спешат к выходу в город. Лина и Павлик бегут вместе со всеми с рюкзаками за спиной.
Телефон! Вот он, в тёмном углу. Павлик скорей разберётся в этом чёрном четырёхугольном ящике с кнопками.
— Конечно, — радуется Павлик, — нашлась интересная работа.
Лина стягивает с Павлика ремни рюкзака. Она возьмёт рюкзак с собой и просит:
— Смотри, Павлик. За вокзальной площадью, как раз напротив, — часы. Под ними остановка трамвая. Я буду тебя там ждать. Только постарайся поскорее.
— Поскорей! Не могу же я просить, чтобы меня пропустили без очереди.
Лина ещё хочет взять из рук брата книгу, которая не влезла в рюкзак. Но Павлик задерживает её руку:
— Погоди, Линочка, это у меня путеводитель по Вене. Я рассмотрю, пока буду стоять в очереди.
Лина медленно идёт через площадь и думает о том, что вот-вот Павлик её нагонит. Кто же разговаривает по телефону долго в такой поздний час? Лина долго ждала на остановке трамвая, хотела тащиться с двумя рюкзаками обратно, а Павлика все не было.
Но именно в этот момент она увидела на площади брата. Он шёл быстрыми шагами, прижимая по привычке книгу к себе.
— Павлик, дорогой, что же так долго? Скорей, может быть, мы успеем на тот трамвай, который идёт по кругу.
Брат подбежал, и тут сестра с ужасом увидела, что Павлик прижимает к себе не одну, а две книги. Вторая — справочник, взятый из телефонной будки.
— Что это?
Павлик тоже испугался:
— Я быстро. Положу на место. Я скоро.
Трамвай дребезжал по улицам спящей Вены.
Всего несколько дней пробыли они в столице Австро-Венгрии. Их больше ничего не удивляло. Ни тянувшиеся цепи гор — Альпы. Ни крупнейший в Вене парк с его изумительными, как водопады, фонтанами. Ни даже собор святого Стефана, перед которым можно было стоять часами.
Но когда купили билеты на какое-то новое, только что отстроенное колесо-великан на краю Вены и стали ждать своей очереди, чтоб занять места в одном из вагончиков, стало сразу необычайно хорошо.
Павлик сосчитал: всех вагончиков двадцать четыре. Значит, можно высчитать, сколько всего людей «великан» поднимет в воздух.
— Смотри, — Павлик потянул Лину за рукав, — сейчас мы будем на самом верху.
Вагончики медленно плыли, как будто для того, чтобы дать возможность посмотреть на те места, которые не успели посетить, — церкви, дворцы, музеи, заглянуть во все закоулки старой-престарой Вены.
Павлик занимается
Павел в шестом классе. Третьего февраля по новому исчислению ему исполнится пятнадцать лет.
У Павла Урысона познания по всем девяти предметам — «пять».
В этом году Павел увлекался шахматами, играл много с Васей Попялковским. Друзья часто ходили друг к другу и так увлеклись шахматами, что иногда играли даже по телефону. Андрей Обух понимал игру, но она его мало интересовала. А всё же он от товарищей не отставал.
Павел принимал участие и в больших шахматных турнирах с некоторыми учениками своего же, шестого класса.
Павлик учился в гимназии третий год. Он очень изменился за это время.
С каждым годом Павел становился веселее, оживлённей, более общительным. Но вместе с тем он всё чаще задумывался, углублялся в себя.
В шестом классе преподаватель математики стал применять в решении задач приём соревнований: кто скорее решит? Перед учителем лежали часы, и он отмечал время, когда ученик подал работу. Чаще других первенство принадлежало Урысону.
Экзамены Павлика прошли в семье совершенно незаметно. Неожиданно пришла и бумага из учебного округа. На этот раз она была более импозантная, чем та, которую Павлик получил по окончании четвёртого класса. Не белая, как была тогда, а голубоватая. Не один лист, а двойной. На первой странице рядом два портрета: царь Михаил Федорович и император Николай II. Отмечалось трёхсотлетие дома Романовых.
Седьмой класс
Павлик пришёл к началу занятий в седьмой класс сильно выросшим и похудевшим. Всего один одноклассник был выше его.
Трудно сказать, как у Павлика зародилась мысль выпускать классный журнал. На обложке было сказано, что журнал этот нелегальный, так как выпускается на уроках немецкого языка. Надо полагать, что преподаватель немецкого языка особым уважением и любовью учеников не пользовался. Как только начинался урок, редактор журнала принимался за работу. Летели записки, заказывались статьи, выправлялся присланный текст, все переговоры — в письменном виде. Журнал был юмористический и назывался «Оберон». «Оберон» — «гном-проказник». Преподаватель немецкого языка не мог не заметить, что в классе творится что-то неладное. Класс перешептывался, часто был слышен смех. Да и исходит это от самого способного ученика Павла Урысона. Да, что-то тут было неладным. Учитель счёл себя глубоко обиженным и решил поговорить с Поликсеной Ниловной. Но всё оттягивал. Не так-то приятно самому рассказывать о том, что творится у тебя на уроке. Но оказалось, что, кроме преподавателя, в классе нашлись обиженные и недовольные. Журнал был юмористический, здесь доставалось и ученикам и некоторым учителям. Журнал имел успех, классу это нравилось. Но вот в одной из заметок досталось ученику Зандбергу, которого уличили в какой-то неблагородной драке. Какие пути связали преподавателя немецкого языка с Зандбергом, трудно установить. Но редактор нелегального журнала П. Уры-он, как он подписывался, предстал перед Поликсеной Ниловной.
Редактор П. Уры-он и не думал отпираться. Поликсена Ниловна, моргая глазами чаще обычного, смотрела на своего ученика, подняв голову, — Павлик уже перегнал свою учительницу в росте, — но только и сказала:
— Я прошу тебя, Поль, оставь ты этот журнал...
И в ответ услышала:
— Всё, Поликсена Ниловна, простите. Больше ни одного номера.
Журнал прекратил своё существование, но он имел большой успех; вышло только три номера, печатался даже какой-то роман с продолжением. Предлагалась даже неразрешимая шахматная задача. Судя по тому, как Поликсена Ниловна легко пожурила Павла, она, очевидно, нашла журнал интересным. Может быть, Поликсена Ниловна втайне даже пожалела, что лишила своих учеников такого удовольствия. Но урок немецкого языка есть урок.
Тогда, именно в седьмом классе, Павел узнал о существовании университета имени А. А. Шанявского. Этот университет помещался в Москве, на Миусской площади, и был открыт для всех желающих по различным разделам наук. Павел выбрал физику. Он получил билет с печатью за № 595/1755 с правом посещения лекций и практических занятий у профессора Лазарева.
Занятия у Петра Петровича очень увлекали Павла. В билете было сказано: «Настоящий билет действителен только для лица, на имя которого он выдан и для посещения лекций только поименованных гг. преподавателей в указанные дни». Этот день был пятница. Павлик ходил в университет и в другие дни. Но Павлик был учеником седьмого класса, и было ему всего шестнадцать лет. Лина по просьбе отца познакомилась по телефону с Петром Петровичем и попросила у него разрешения посетить его. Отец с нетерпением ждал возвращения дочери. Впервые сестра Павлика слышала о своем брате блестящий отзыв из уст крупного учёного. Профессор Лазарев очень хвалил его доклады. Сестра не шла, а бежала домой сообщить скорей эту радость отцу.
С тех пор П. П. Лазарев не раз сам приглашал к себе сестру Павла, чтоб рассказать ей об успехах брата. Профессор Лазарев был доволен, что отыскал талантливого ученика, и хотел, чтобы Павел у него работал.
Сестра не скрывала от Павла свои посещения Лазарева. Но Павлик мало интересовался тем, что сообщал ей Пётр Петрович. Павлик был слишком увлечён наукой.
Несмотря на всю детскость, сохранившуюся у Павлика, у него уже была своя линия жизни, которой он твёрдо держался.
Однажды Лина открыла ключом дверь квартиры и остановилась на пороге, Павлик играл гаммы. Ясно и полновесно звучали упражнения. Затем он стал играть по нотам или на память... Она узнала Пятую сонату Моцарта. Адажио. Она присела на стул.
— А, Линочка!
Павел оборвал игру и встал. Лину поразило выражение его лица. Оно было спокойным и строгим. Перед ней стоял взрослый, разумный человек, который взвесил свой поступок и был готов за него отвечать.
— Тебе придётся отказать учителю музыки. Я приготовлю урок в последний раз, чтобы не обидеть старика... Пойми, я не буду музыкантом. Я не могу на музыку тратить столько времени. У меня есть более важные дела.
Спорить было бесполезно. Она только сказала, чтоб не уронить авторитет отца:
— Я должна поговорить с папой. Ты же знаешь, я ничего одна не решаю.
За её спиной прозвучал жёсткий голос Павла:
— Всё равно, я больше учиться музыке не буду.
Отца не было дома. И всё же Лина быстро прошла в его комнату. Она не хотела, чтоб Павлик видел, как она огорчена. Ведь музыка была бы таким чудесным отдыхом для Павла.
Снова неслись грустные звуки Пятой сонаты Моцарта на бехштейновском рояле. И снова оборвались на полутоне.
«Наверное, папа пришёл», — подумала Лина. Она знала, он тоже будет огорчён.
Отец вернулся. Он сразу понял — что-то произошло.
— Случилось что-либо? — спросил он тревожно.
Лина рассказала. Отец покорно сказал:
— Павлик прав. А учителю я сам отнесу деньги и постараюсь всё объяснить, чтобы не обидеть. Не знаю, поймёт ли он. Каждый человек, а в особенности старый, ставит своё искусство превыше всего.
«Бехштейн» не ушёл из дому. Он по-прежнему стоял в углу. Иногда он оживал, его звуки оставались такими же чистыми, наполненными, неповторимыми.
Последний год в гимназии
В жизни Павла большое событие — его статья «Рентгеновская радиация трубки Кулиджа» напечатана в журнале «Вопросы физики».
Первая напечатанная работа! И где — в солидном научном журнале! Было чем гордиться.
Но Павлик никак на это не среагировал, он был таким же, как всегда. В семье тоже не придали напечатанной статье особенного значения, но всё-таки...
Первый гонорар! Деньги были посланы из Петербурга, с физического отделения университета, как было сказано на отрезном купоне почтового перевода.
Несомненно, Павел был доволен. Впервые к нему обратились со словами: «Милостивый государь Павел Самуилович!». Гонорар составлял 17 рублей 70 копеек. Но молодой автор заказал для себя пятьдесят оттисков, за них вычли 5 рублей 50 копеек. Оставшуюся сумму 12 рублей 20 копеек перевели в Москву. Уже одно то, что Павел заказал для себя пятьдесят оттисков, показывало, что он придавал статье большое значение, хотел, вероятно, раздать друзьям.
Вот о каком случае рассказывает его гимназический друг Вася Попялковский, который сидел с ним рядом, сначала за школьной партой, потом за одним классным столиком в гимназии. Было это в последнем, восьмом классе гимназии. Друзья поспорили: кто скорей пройдёт Садовое кольцо? Конка в то время уже не ходила, а трамваи тянулись по отдельным отрезкам пути. Протяжённость Садового кольца девятнадцать километров.
Друзья встретились на Кудринской площади, серьёзные, молчаливые, попрощались, помахали друг другу рукой, повернулись и... разошлись в разные стороны.
Павлик шёл очень быстро. Он спешил. И это было понятно — он хотел выиграть пари. Вася тоже спешил. Но он очень скоро устал. И ему это вскоре вообще надоело. Он вернулся на Кудринскую площадь, стал на том самом месте, где друзья условились встретиться.
Павел честно прошёл весь путь — девятнадцать километров. Он шёл ровно четыре часа. Ему было жарко. Он нёс свой френч и кепку в руках. Вася увидел его ещё издали. Павлик был такой радостно возбуждённый! И вдруг увидел Васю. Как? Вася пришёл раньше его? Но когда Павел подошёл к другу, он был уже совершенно спокоен. Ну пришёл так пришёл. Что ж, очень хорошо.
— Ты давно здесь? — спросил Павел.
Вася опустил глаза, а всё же ответил твёрдым голосом:
— Да нет, недавно...
— Ну, пошли домой, — сказал Павлик. — Я на трамвае — устал. Вася, ты попозже к вечеру позвони, может быть, по телефону в шахматы поиграем.
— Хорошо, — ответил Вася, — идём, я провожу тебя до трамвая. — Он уже колебался: не сказать ли Павлику правду?
Павел ничего не заметил. Они перешли улицу. Вдали показался трамвай. Вася подумал: он может не успеть сказать. И схватил Павла за руку:
— А я тебя обманул...
— Как? — изумился Павлик, он сразу даже не понял.
— А я совсем мало прошёл. Я бы не смог. Ты выиграл пари.
Павлик был разочарован.
— А-а-а... — протянул он. Трамвай громыхал. — Так мы вечером по телефону сговоримся и в шахматы поиграем...
Павлик был только разочарован, но совершенно спокоен.
Снова экзамены в последнем, восьмом классе. Снова в особняк старинного дома Бутурлина, № 12, входят депутаты от московского учебного округа. Каким-то анахронизмом веет от них. И странно видеть их здесь, в этих стенах, где всё проникнуто свободным духом. Всё ново в этой гимназии: и отношение учителей к учащимся, основанное на доверии и уважении, и отношения мальчиков к девочкам чисто рыцарские.
Проводить домой — пожалуйста! И пальто поможем надеть. Это же наши товарищи. Мы с ними столько лет вместе. И честь школы, которую надо беречь, честь гимназии. Об этом надо всегда помнить.
18 мая были испытания на аттестат зрелости. У Павла Урысона по всем двенадцати предметам пятёрки. И упоминание об исключительных способностях в физико-математических науках.
И наконец, свидетельство предоставляет ему, Павлу Урысону, на основании известного законоположения право поступления в университет — одинаковые условия с учениками, прошедшими полный курс правительственных мужских гимназий.
Павел Урысон блестяще кончил гимназию, Это был 1915 год. Попадёт ли Павлик в университет?
Университет
Павел — студент
Летом 1915 года Павел никуда из Москвы не уезжал.
Лето было грустное. Шла война с немцами. Мимо Перловки, где жили на даче, шли поезда, на красных вагонах чернели крупные надписи: «40 человек или 8 лошадей».
Павел редко приезжал на дачу. По утрам, как обычно, занимался. Все товарищи Павла разъехались на лето.
2 июня 1915 года Павел подал прошение в императорский Московский университет о зачислении его в число студентов математического факультета. Одновременно Павел отнёс прошение в Коммерческий институт, правда этот институт его мало интересовал — там не было математического факультета.
Шли дни. Уже осталось совсем мало времени до начала занятий в университете. Семья ждала ответа. Но его не было.
Был воскресный день, один из дачных дней, когда лето кончается и особенно ценятся последние ласковые лучи.
На маленькой террасе со скрипучими ступеньками собрались родные, знакомые. Шутили, смеялись. Отец сказал:
— Что-то Анна с Лидочкой сегодня запаздывают.
И как бы в ответ на боковой дорожке послышался Анин голос:
— Поздравляю! Павлик — студент!
Все поднялись навстречу Ане. Только отец не проявил никакой радости. Он спокойно выжидал.
Анна с Лидочкой подошли к нему поздороваться.
Всё так же сияя от радости, что может сообщить отцу приятную весть, Анна сказала:
— Павлик принят в Коммерческий институт.
Но отец не шевельнулся, грустно склонил голову.
Все сразу умолкли. Тогда отец обвёл всех грустным взглядом:
— Нет, это не то, что нужно нашему Павлику. Он математик, и ему нужен математический факультет.
Все понимали, что отец прав.
Занятия всюду начались вовремя, 1 сентября. Желаемого ответа для Павлика не было. На всякий случай Лина отвезла в канцелярию Коммерческого института 75 рублей.
Через несколько дней Павлу сообщили, что его имя имеется в списке принятых в Московский университет на математический факультет.
Так хотелось видеть брата настоящим студентом, в студенческой форме! Надо было купить всё студенческое обмундирование. Начали с фуражки. Большие задумчивые глаза были так хороши под синим околышем, и сердце сестры радовалось.
Вышли из магазина, Павлик по привычке засунул руки в карманы пальто, он спешил.
Сестра его окликает:
— Павлик!
Он оборачивается, улыбается:
— Некогда! До свидания!
В грубоватой студенческой куртке с двумя рядами золочёных пуговиц Павлика не узнать. Сразу как-то повзрослел и какой-то нескладный, на себя непохожий.
Но Павлу всё равно, он смеётся.
Началась университетская жизнь. Всё интересно. Открывался новый мир.
Павел был робким, скромным, стеснительным, так говорили люди, знавшие его. Но атмосфера на первом курсе университета в 1915 году оказалась для Павла благоприятной.
«Я познакомился с Павлом Самуиловичем, когда мы были на первом курсе, — рассказывал Семён Самсонович Ковнер. — Не могу сказать, что́ меня заинтересовало в этом очень юном человеке, почти мальчике. Но его лицо мне показалось интересным. Об этом говорили и большие, широко открытые блестящие глаза, и неожиданно появлявшаяся улыбка, освещавшая всё лицо, и белые зубы на смуглом и в то же время нежном лице. Я следил за ним. Он нашёл для себя место в первом ряду и сидел не оборачиваясь, спокойно все часы лекций. Очевидно, внимательно слушал. Я был очень удивлён, когда вновь встретил Урысона в университете Шанявского.
— Как вы успеваете совмещать занятия в обоих университетах? — спросил я Урысона.
Тогда Павел Урысон, как старому знакомому, рассказал мне, что уже два года работает у Петра Петровича Лазарева. Павел оказался очень общительным молодым человеком:
— Я живу близко отсюда. Мне жаль оставлять химию. Я давно занимаюсь химией, с детства.
— Вот как!
А Урысон с улыбкой прибавил:
— Я даже могу брать страшно горячее в руки. Они у меня «лужёные». Этому я научился на занятиях по химии.
В следующий раз оба студента снова встретились в университете Шанявского. Ковнер ещё больше удивился: Урысон на этот раз читал доклад. Его внимательно слушали.
Павел по утрам занимался дома, если в этот день не было лекций в университете. Но жизнь усложнялась. Война давала о себе чувствовать. В университете перестали топить. Огромное здание имело массу мрамора, этот мрамор ласкал глаз; теперь казалось, что от стен, от широкой мраморной лестницы с широкими перилами веет холодом. Раздевалка закрылась. Студенты ходили в шубах и шапках, носили их с собой. Теплей, когда шуба рядом.
Усложнилась жизнь и дома. Было трудно с продуктами. У Павлика три сестры. То одной надо помочь, то другой. Отказывать Павел не умеет, да и не хочет. Чаще всего он идёт к самой старшей сестре, Анне. Там Лида, с которой он дружит.
А у Лены музыка. Она играет для Павла, сколько бы он ни хотел слушать.
Но на всё это надо время. Павел утром занимается. Удивительно, как быстро он читает сложные математические книги, делает по ним заметки.
Насколько профессор Пётр Петрович уважал своего ученика, видно из того, что он подарил ему экземпляр своей книги, вышедшей в 1916 году. Это было через год после того, как Павел перестал у него работать. Павлику было тогда 18 лет. Профессор сделал на книге надпись:
|
«Многоуважаемому Павлу Самуиловичу Урысону.
П. Лазарев».
|
Но наряду с серьёзными, трудными задачами, определившими научное богатство Павла, в нём много было ещё детскости. В скольких самых замечательных выдумках Павлик был инициатором! Его подруги Лида Орлова, Поля Урысон и Миля Шлезингер вспоминают о том, как они собирались в 1916 году. Угощение было более чем скромное. Главное блюдо составлял салат из овощей. Павлик нарезал ровные квадратики белой бумаги, сделал «фунтики» и всем рассовал по карманам пальто. Никто и заметить этого не успел. Он смеялся, представляя себе, как гости, придя домой, найдут в кармане аккуратный фунтик с небольшим количеством свеклы, моркови, огурцов и картошки. Сколько потом было веселья!
Дневник
Первая продпоездка
С 4 января 1918 года студент Павел Урысон начал вести дневник. Он пишет каждый день, часто по многу страниц. Если несколько дней ему не удавалось побеседовать с самим собой, это его тяготило.
10 ноября (воскресенье). Докончил свой труд — догнал записью события. |
Поездки за продуктами Павлу нравились. Он их рассматривает не только как возможность прокормиться. 1918 и 1919 годы были самыми голодными и холодными. Получить разрешение на продпоездку было не так-то просто. А передвигаться в то время было необычайно тяжело.
Товарищ Павла, Вася Попялковский, получил разрешение на продпоездку на четверых человек. Он предложил Павлу поехать вместе.
|
4 октября (пятница). Так как получить билет на дальний поезд было совершенно немыслимо, то мы решили взять до Подольска (с тем, чтобы выбраться на платформу к поезду). Весь туннель был забит подобными же «дачниками». Пришлось ждать страшно долго, почти до 24 ч. Сначала мы стояли, потом после некоторого колебания, так как пол был грязнее всякой возможности, сели; а под конец, махнув рукой на остатки «буржуазных предрассудков», легли. Мне это показалось верхом геройства, но уже часа через два я привык и перестал об этом думать. Наконец получили билеты и ринулись на платформу. Радость наша, однако, скоро остыла, так как поезд подали только через два с лишним часа (около 2-х часов), а на перроне было не только грязно, но и мокро и сверх того холодно. Всё же и тут уселись. Оглядываюсь: на огромном, залитом светом перроне во всех возможных позах стоят, лежат, сидят, ходят тысячи людей: мужчин, женщин, молодых, старых — всяких. Все унылые, с котомками. Это голодная Москва едет за хлебом. Разговоры не клеятся, всех клонит ко сну. Хоть бы поезд поскорей! Вот и он — «максимушка», состоящий из 53-х теплушек, — подходит. Остановился. И тут началось что-то совершенно несуразное. Толпа нахлынула на широкие двери «спальных вагонов», но влезть на такую высоту вообще трудно, а под напором сзади — особенно. Поэтому наполнение идёт страшно медленно, а наружная толпа, воображающая — на основании прошедшего времени, — что вагон почти полон, рвётся вперёд всё сильнее, давит, мнёт, дерётся, оглашает воздух ругательствами и криком. Особенно стараются бабы: лезут через головы, оттаскивают отдельных мужчин и визжат. В пылу борьбы не замечаешь этого крика, но мне кажется, что он должен быть слышен далеко за пределами Курского вокзала. Меня сильно оттёрли, но и я наконец попал, хотя и без своей корзинки, которую я передал какому-то товарищу. После очень долгих поисков обнаружилось, что на ней кто-то сидит. Это мне дорого обошлось: с одной стороны — корзинку сломали, а с другой — я потерял место у стены, единственное, где можно сидеть сравнительно хорошо. Дело в том, что в вагон набилось столько народу — до 150 человек, — что часть должна была стоять, а сидевшим приходилось поджимать ноги как можно ближе к себе. Если не на что сесть, как у меня, и приходится сесть на пол, то ноги (особенно если на них давят чужие ноги и вещи) быстро немеют, и тогда остаётся только встать на некоторое время и плясать на одном месте, пока они не отойдут. Поезд полз отчаянно медленно. После Лопасни, когда уже было светло, я встал со своего места и уже весь день то стоял, то сидел в дверях, свесив ноги (на это место мало кандидатов, так как ноги мёрзнут). За Серпуховом местность очень красива — холмы, глубокие долины, леса, реки; особенно хороша Ока.
К вечеру вагон постепенно опустел. Особенно много слезло в Горбачёве. В результате можно было растянуться на полу; под голову я положил пустой чемодан. Никогда я прежде не поверил бы, что в этаком положении можно спать, да ещё как!
...За день прошли свыше 30 вёрст. По дороге есть одно замечательно красивое место — совершенно отвесный песчаный обрыв над Душей. Он изрыт вертикальными бороздами и пещерами и очень высок. Двинулись мы окончательно из деревни только вечером. У всех вместе было около 12 пудов. Мы положили всё на телегу, которую наняли, а сами пошли пешком. Было уже совершенно темно, начал идти дождь, дорога превратилась в жидкую грязь. Лошадь на колоссальном подъёме у города не могла вывезти, и мы все помогали, стараясь изо всех сил. С большим лишь трудом удалось подняться. Вероятно, в этом месте у меня и вылетела фуфайка, которую я запрятал от дождя за пазуху. Когда я заметил это (уже в городе), я прямо опешил, но делать было нечего — ночью всё равно её нельзя было бы найти. Я был в столь усталом состоянии, что, когда пришёл на вокзал, сел на мешок с мукой, опёрся головой на руку и тотчас заснул. Никогда не думал, что можно спать в такой позе! Впрочем, меня скоро разбудили. Мы перетаскали вещи на платформу и стали ждать поезда. Решено было лезть на крышу. Но когда подошёл почтовый (в 3 ч. вместо 23 ч.), нас смутили как будто свободные площадки. На самом же деле они были переполнены людьми и вдобавок заперты. Мы кинулись туда, обратно, опять вперёд. Наконец, поняв в чём дело, захотели лезть на крышу, но было уже поздно: поезд ушёл без нас. Легли спать на полу вокзала с мешками вместо подушек. Кроме меня, все отлично выспались. Я же встал в 5 ч. и отправился искать фуфайку. Это был, пожалуй, наиболее сильный волевой акт за всё время. А пропал он даром, так как я ничего не нашёл, хотя и дошёл почти до деревни (туда и назад около 12 в.). Больше всего меня мучило, как я скажу об этом дома. Я никак не сказал, но сегодня это наконец обнаружилось. На обратном пути я выдул целую бутылку молока, потом на вокзале улегся спать. Я встал с большим трудом, так как был уже болен, чего я, однако, ещё не знал. Поезд вместо 12 ч. пришёл в 14 ч. К этому времени я уже успел понять, что заболел. Поэтому вещи на крышу таскали только они, а я лишь до ступенек. Однако когда поезд тронулся, я остался с двумя пудовыми мешками. Пришлось стать с ними на ступеньки. У меня их, впрочем, скоро забрали, и я тоже отправился наверх. Я там улёгся, закутался в Васин плед, вообще устроился со всеми удобствами. Кроме того, прекрасный вид не только на обе стороны, но даже вперёд и назад. Не будь я болен, эта поездка доставила бы мне большое удовольствие. Вдруг в Скуратове выстрелы из ружья и крики «Слезайте с крыш! Все сейчас же долой с крыш!» Один милиционер идёт по земле, другой по крышам. Это достаточно внушительно: мы покорно стаскиваем мешки, которые с таким трудом втащили, и сходим сами. Один милиционер злющий, другой добрый. С последним мы ведём переговоры, что мы советские служащие, должны прибыть вовремя, без нас работа разлаживается. Тот наконец сдаётся: позволить он не имеет права, но сгонять не будет. Начали втаскивать мешки. Уже почти все наверху, как вдруг появился злющий, который ничего знать не желает: «Долой!» — и кончено. Так и остались. А я чувствую себя всё хуже и хуже. Улегся на полу в зале 1-го класса и головы поднять не могу. К счастью, объявили, что будет ещё поезд на Москву. Но и тут помучили. Сказали, что подадут в 20 часов. К этому времени все вышли на платформу; меня тоже вытащили — я сидел и дрожал от холода. До 22 часов — ничего. Потом появился товарный паровоз с теплушками и стал маневрировать перед нами. Каждый раз все думают, что уже подают: встают, берут в руки вещи, а он проходит мимо. Наконец он остановился чуть не за версту от станции. Публика понемногу потянулась туда; пошли и мы. Только в 24 часа, когда уже на платформе никого не осталось, поезд подали. Вскоре он и отправился. Я улёгся, да и другие сидели привольно, но в Горбачёве (следующая станция) прибыло столько народу, что стало теснее, чем по пути туда. Меня, однако, как больного, оставили и вообще относились ко мне очень хорошо. Вася немного нервничал, но надо заметить, что я ему очень досаждал, и он не лежал, а всё время сидел. Ехали мы 30 часов, которые я провёл в полузабытьи, так как даже не замечал, что твёрдо лежать. В Москве железнодорожники устроили ещё свинство: для получения платы за багаж посадили где-то на мосту (дело было в Москве-Рогожской) одного человека. И вот многотысячная толпа стоит часами и мёрзнет (день был холодный, да ещё перед рассветом), потом со всеми тюками лезть наверх и опять стоять, стоять... Чёрт знает что! Я побыл часа 1½, промёрз насквозь, потом Вася отвёл меня к трамваю, и я без вещей поехал домой. Вещи Вася потом привёз на извозчике. Дома я пролежал три дня, сегодня встал. Хотел заниматься, но не мог из-за слабости.
|
Как Павел работал
6 октября. Вчера и сегодня занимался, но немного и малоуспешно, так как чувствую себя очень слабым. |
8 октября. Занятия совершенно не двигаются. За всё время прочел одну главу в 22 страницы [Пикара: «Курс анализа» на французском языке]. Голова не желает работать. Ем, сплю по 12 часов, валяюсь, в общем, противно. |
10 октября. Наконец обрёл способность заниматься. Хотя и прочёл всего 8 страниц, но зато вполне основательно (со всеми примерами, частными случаями и т.п.) и как-то по-настоящему. |
16 октября. Сегодня занятия шли лучше — 15 страниц. |
17 октября. Сегодня прочёл 20 страниц, и притом с очень большим удовольствием, так как результаты мне были знакомы по Гурса, который получил их совершенно иным путём. |
Сегодня, 18 октября, я прочёл всего 6 страниц, так как принялся доказывать теорему, которую Пикар только высказывает: провозился с ней очень долго, но ничего не доказал. |
20 октября. Вчера и сегодня занимался очень усердно, и притом довольно хорошим темпом. Прочёл я, однако, всего 21 страницу, так как попал вчера на существование особой точки. Пикар, по обыкновению, наврал с равномерной сходимостью. Вчера мне только удалось доказать, что тем методом, которым он действует, ничего получить нельзя. Сегодня после долгих бесполезных усилий я неожиданно получил доказательство теоремы совершенно другим путём. |
29 октября. Сегодня занимался очень долго (даже из дома не выходил), но очень непродуктивно. Голова как-то слабо работала, да и места попались трудные и малоинтересные. |
31 октября. Ещё в субботу вечером у меня возникла мысль об обобщении одного исследования Пикара [нелинейные интегральные уравнения]. В воскресенье я попробовал это сделать, но слишком сложное письмо меня отпугнуло, и я не стал продолжать. В понедельник я случайно опять взялся, и неожиданный успех так захватил меня, что я больше ни о чём думать не мог: не читаю ни книг, ни газет, даже ночью моя голова так занята этим, что я очень плохо сплю. Сперва я только копировал Пикара (т.е. шёл тем же путём), но чем дальше, тем более получал преобладающее значение метод последовательных приближений — самостоятельные выводы. |
1 ноября. Сегодня продолжаю импровизировать: работа подвигалась очень хорошо. Если оправдается одна моя мысль — о сродстве моих уравнений с задачей о равновесии вращающегося жидкого тела, — то будет совсем шикарно. |
4 ноября, 11 ч. 40 мин. Вчера работа шла внешне хорошо. Я разработал целую, так сказать, главу своей теории. Но внутренне она меня совсем не удовлетворила. Сначала я не понимал, почему именно, но после сообразил, что тут дело в следующем. Меня всё время захватывали не результаты, а метод, точнее говоря, даже не метод, а самый процесс созидания, мне прежде совершенно незнакомый. Но если архитектору постройка 20-го здания и доставляет меньше удовлетворения, чем постройка первого, то всё же, если тип построек различен, доставляет, и даже в достаточной степени. Иначе будет обстоять дело, когда он станет строить целый ряд совершенно или почти совершенно одинаковых скучных казарм; тогда вместо удовольствия очень скоро появится скука. То же самое произошло и со мной. Моя вчерашняя работа — 20-я вариация на ту же самую тему (по методу: результаты относятся к вполне различным вещам, а потому, сами по себе, не менее интересны, чем предыдущие). |
22 ноября. Позавчера я с 9 ч. 20 мин. засел заниматься; до обеда успел прозаниматься 4 часа. Я уже думал, что экзамен придется похерить, но вечером в университете узнал, что он будет 25-го. По сему поводу я вчера весь день ни черта не делал, да и сегодня занимаюсь не очень усердно. |
24 ноября. В результате абсолютно ничего не знаю, а экзамен завтра утром. Что я буду отвечать — неизвестно. |
26 ноября. Сегодня с утра немного занимался, а дальше бездельничал. Хотя я самым настоящим образом ничего не знал, я совершенно перед экзаменом не волновался. Выдержал благополучно. |
1919 г., 1 января. 31 декабря благополучно сдал механику. Новый год встречал с Васей Попялковским в артистическом кафе «Красный петух». Ночевал у Васи. Проспал с 4 ч. 30 мин. до 10 ч. в одетом состоянии на диване. На следующий день с большим трудом дочитал оставшиеся 115 страниц по физике. Вечером пошёл экзаменоваться и, таким образом, кончил университет. Правда, только фактически, но не формально. Первые несколько минут я был необычайно доволен, но это быстро прошло. |
8 января. Сегодня наконец засел заниматься: обрабатываю свою работу по нелинейным интегральным уравнениям. Сначала шло довольно слабо, а потом разгулялось, так что бросил только в 22 ч. 30 мин. |
12 января. Все эти дни обрабатывал свою работу, которая оказалась много объёмистей, чем я предполагал. |
24 сентября. Доказал существование одного решения волнового уравнения. Невероятно устал, но был на седьмом небе. |
25 сентября. Продолжаю заниматься волновыми уравнениями, но на этот раз без успеха. |
26 сентября. Стипендии мне, очевидно, не дадут, из-за совместительства. |
28 сентября. После обеда нашёл ещё единственность решения волнового уравнения (кажется, всё). |
29 сентября. Продолжаю заниматься Линделёфом и бездельничать по службе. |
30 сентября. В университете мне сообщили, что стипендию будут получать только те, кто не на службе. Буду просить Лузина, чтоб он мне что-нибудь достал. |
8–11 ноября. Всё то же. Занимаюсь довольно усердно Линделёфом и Борелем. |
14 ноября. Продолжаю читать Бореля. |
15 ноября. Лузин предложил место преподавателя в Симбирском университете, но сам не советовал. Я отказался. |
16 ноября. В комнате 4° — писать почти немыслимо. Занимался Блюменталем. |
22 ноября. Занимался Блюменталем. |
27 ноября. Кончил Блюменталя. Принялся за Бореля. |
29 ноября. Занимался. |
25 декабря. Исключительно усиленные занятия. Темнота в квартире. |
1920 г., 25 февраля. Бюшгенс звонил с предложением места преподавателя в Сельскохозяйственной академии. Свидание завтра. |
26 февраля. Опоздал к Бюшгенсу!!! Вечером концерт. Почти не слушал от огорчения. |
28 февраля. Снеговая повинность. Много работал киркой. |
4 марта. Нашёл наконец Бюшгенса. Оказалось, что я действительно опоздал, но вина не во мне. |
12 апреля. Вечером, кажется, решил задачу Каратеодори, но только аналитическим методом. |
15 апреля. Доказал геометрически задачу Каратеодори. |
29 апреля–1 мая. Пробовал решать задачу Бореля. |
2 мая. Задача Бореля. |
3 мая. Просидел у Лузина от 11 ч. 30 м. до 17 ч. 30 м. Совместно решали задачу Бореля, но ни черта не решили. |
4 мая. Ночью решил (кажется) задачу Бореля. |
6 мая. Рассказал Лузину про задачу Бореля. Он меня очень поздравлял, а вечером оказалось, что я наврал. Что теперь делать? |
8 мая. Продолжал упорно работать, без особого успеха. Занятия вовсе не клеятся, просыпаюсь с несвежей головой. Сильнейшая утомлённость (и физическая, и умственная) , отсутствие стремлений к физическим упражнениям, наконец, отсутствие «весеннего» настроения. |
9 мая. Доказал частный случай, но всё более прихожу к заключению, что общего случая мне доказать не удастся. |
10–11 мая. Понемногу продолжаю работать. Наконец получил доказательство, но, наученный горьким опытом, отнюдь не берусь утверждать, что не наврал где-нибудь. Через 0,03. Уже нашёл ошибку, получил только прежний частный случай. |
12 мая. На этот раз, кажется, доказал. Вечером рассказал всю эпопею Лузину. |
13 мая. Поздно ночью опять нашёл ошибку. |
16 мая. Сегодня выступил в математическом обществе с докладом на тему: «Об одной задаче Каратеодори». Весь день писал (будут печатать). К самому докладу не готовился. Во время докладов Чаплыгина и Власова волновался отчаянно. Но как только подошёл к доске, волнение сразу испарилось, и я говорил дельно, ясно и не спиной к аудитории (как в свое время в математическом кружке и в университете Шанявского). Слушали очень внимательно. Отзывы: 1) Егоров — «Это у вас хорошая работа» (позже, но громко); 2) Млодзеевский — «О трансцендентной интуиции». Это я так говорю, он как-то выразился иначе; 3) Степанов (a part — по-французски «особо») — «Ваш доклад имел и внешний успех» — ведь бывает, что интересные вещи проходят незаметными; 4) Лузин — «Педагогические способности». Поздравляли, жали руку; 5) По окончании все четверо спрашивали о некоторых частностях и вообще «оживлённый обмен мнений». Чаплыгин и Власов ушли после доклада. Были: Четверухин, Фиников, Шмидт, Селиванов, Рожанская, Айхенвальд, Фрумкина, Певзнер, ещё двое. |
2 августа. В колхозе занимался до умопомрачения. [Павел поехал с учениками своей гимназии как воспитатель на летние каникулы в колонию.] |
11 августа. Прочёл сегодня 61 (!!!) стр. Бореля «Series à termes positifs». Правда, ерунда необычайная, но всё-таки! |
14 сентября. Сегодня наконец позанялся, и даже очень недурно позанялся. |
15–17 сентября. Занимаюсь необычайно много. Вчера — 40 страниц Бореля, сегодня — 33. |
24 сентября. Предложение Костицына: университет им. Свердлова с пайком и вычислительными работами. |
25 сентября. У Костицына дело в шляпе. О моём «уравнении волны» Некрасов, оказывается, докладывал на Всероссийском съезде физиков. |
28 сентября. Магистерские экзамены на носу. Впрочем, я и не думаю заниматься и всё больше разбираю шахматные партии по Шифферсу. |
10 октября, 19 ч. Понемногу бездельничал и читал всякую ерунду. На душе тихо, пусто и как-то безнадёжно спокойно. |
14 октября. Вечером у Лузина. Работой он остался доволен, мною вообще тоже. |
20 октября. Занятия идут хорошо (36½ стр.). |
21 октября. Занятия идут прежним темпом (37½ стр.), и немного ходил по разным делам. Настолько втянулся в занятия, что не говорил с Лузиным, а это было весьма необходимо. |
23 октября. Импровизировал по математике, но без успеха. |
6 ноября. Занимался. Предложение места преподавателя в Техническом. |
10 ноября. Экзамен, рассказал всё своё. Были: Лузин. Поздравлял, сказал, что блестяще, но и только. Степанов заинтересовался, и даже очень. И Фиников, который ничего не понял, мне его было искренне жаль. |
12 ноября. Решил держать экзамен по интегральным уравнениям 24 ноября; пока что валандаюсь без толку. |
17 ноября. На поверочном сборе велели явиться на призыв. |
18 ноября. Бегал по призывным делам и немного занимался. |
19 ноября. Нашёл замечательную ошибку в теории интегральных уравнений. |
24 ноября. Экзамен по интегральным уравнениям и классическому анализу. Были только Лузин и Кудрявцев. Всё отлично. |
29 ноября. Ходил в Техническое, «получил» две группы. В Техническом меня выбрали единогласно. Вечером у меня был Бернштейн. Он пришёл после семинара, все велели мне кланяться, от «царя», т.е. Лузина, до последней нищенки, так называемой «малой кастрюльки» (некая курсиха). |
8 декабря. Дебют в Техническом. Очень недурно. |
10 декабря. Занимался необычайно много (44 страницы шрифта меньше обыкновенного = 55 нормальных). |
28 декабря. Утром в Техническом экзаменовал двух студентов. Они именовали меня «профессор». |
29 декабря. В Техническом экзаменовал 15 человек, из коих четырёх провалил. Достаточно неприятно. Устал как собака. |
1921 г., 4–5 января. Читал очень успешно Бианки — «Теория поверхностей», и больше ничего. Даже из дому не выходил. |
13 января. Вечером «IV заседание по вопросу о функциях 2-х переменных с ограниченным изменением» с В. В. Степановым у меня. Недурно. |
Тайна
Почти с самого начала дневника мы узнаём о сокровенной тайне Павла. О ней знает только его племянница Лидочка. На подмосковной даче в Мамонтовке Павел познакомился с Верой, которая жила там с родными. Павлик очень редко встречался с Верой и всегда случайно. А полюбил её навсегда. Мечтал о Вере и жил этой мечтой.
2 сентября (понедельник) 1918 г. Что делать? Старый, испытанный способ. Незачем ходить перед домом Веры. А ходи по Тверской и жди встречи, через ½ года, быть может, я её и встречу. А телефон у них не работает — прямо можно с ума спятить. |
3 сентября (вторник). Штора на окне снова пришла в неподвижное состояние. После долгого, долгого колебания зашёл в подъезд и спросил швейцара: «Приехали ли М-ны?». И тут последовал voix de grace (голос милости, на французском языке): «Не приезжали». Я остался спокоен, как человек, который оглушён. И сейчас спокоен, даже, вероятно, скоро смогу начать заниматься. Но внутри у меня пусто, словно всё выметено. Я не в скверном состоянии, у меня никакого настроения, мне всё равно. |
9 сентября (понедельник). Под вечер пошёл к Лене и заставил её играть. Выбрал я ноктюрн Döhler'a, так думал создать этим соответствующее настроение. Эффект получился значительно сильнее, чем я хотел. Мои мысли обратились к Верочке, и я чрезвычайно ясно — ясно до боли — представил себе её фигуру, её милое лицо, её голос. С чувством безвыходного отчаяния шёл я домой, тщетно стараясь усилием воли создать себе равнодушное настроение. Только по приходе домой я несколько пришёл в себя. |
10 сентября (вторник), 10 час. Спал я плохо, всю ночь в моем мозгу вертелись мотивы. Phantasie Impromptue и Capricio Brillante (Мендельсона); а над всем этим — Верочка. Я её видел такой, какой она была в Мамонтовке (хотя она мало с тех пор переменилась, но всё же переменилась) , а также на фотографии гимназического выпуска. И вперемежку всё время жгучая мысль: «Никогда, никогда...». Хотя я твёрдо решил не смотреть на её окно, но, когда проходил мимо, не мог удержаться. По пути туда (20 ч.) штора была поднята и было темно. На обратном (0 ч.) спущена и светло (у неё и в столовой). Неужели горничная действительно у неё поселилась? Хуже всего то, что на меня опять напало сомнение, хотя я и понимаю, что это нелепость, что это абсолютно невозможно. Мне сейчас пришло в голову, что самое жестокое — это не отнять у человека последнюю надежду, а, наоборот, дать ему искорку надежды в явно (для него самого) безнадёжном случае. |
1 сентября. Я узнал тайну «шторы»: там кто-то живёт. Казалось бы, что всё это не особенно должно на меня повлиять. Между тем я пришёл в ужасное состояние. Впервые за всю историю это состояние просилось наружу; более того, мне трудно было сдержаться, и даже не вполне смог это сделать: если моя физиономия и изображала нечто вроде улыбки, то усидеть на месте я совершенно не был способен. Узнал, что Вера с родными в Киеве. Особенно мучительна была картина, которую я себе представил: людная улица, солнечный, тёплый день, она в спокойно хорошем настроении и с радостным лицом... По дороге домой я окончательно успокоился; сейчас мне только немного грустно, не более. |
18 октября (пятница). Два дня неумеренно много мечтал о Верочке... Только один раз мне пришла мысль в голову: «А ведь этого никогда не будет», — и мне стало очень не по себе. |
26 ноября (вторник). Не могу себе представить, чтоб я полюбил другую. Смотрю я на хорошенькую девушку с удовольствием, охотно разговариваю, даже познакомлюсь, но и только. |
Сколько раз мы читаем в «Дневнике»:
«Если б вместо этой славной, но нелепой девицы была Верочка».
«Что, если б возвращаться в такую прекрасную лунную ночь под руку с Верочкой».
Павел всегда отмечал, сколько времени прошло со дня последней мамонтовской поездки.
Его запись летом 1921 года:
«Три года прошло, а я о Вере не думаю. Впрочем, это ничего не значит — ведь было же аналогичное положение. Если же действительно конец, то тем лучше, особенно если принять во внимание, что на возвращение Веры надежды нет никакой. А думаю я очень упорно. И мечтаю. А всё-таки она для меня всё (в этой стороне жизни, понятно). Или, пожалуй, не она, а представление о ней; её гений, выражаясь древней терминологией. Я обожествил своё воспоминание о ней; и как могу я, любивший богиню, смотреть на смертных? Смотреть-то я, пожалуй, могу; и смотрю; но поставить смертную на её место... никогда! Настоящая, живая Вера для меня reellement (по-французски — реально) так же мертва, как Беатриче для Данте. Я это отлично понимаю и, в некотором роде, сознаю. Но не до конца: полное сознание ведь должно было бы убить Веру моих грёз. А она живёт; быть может, не очень полной жизнью, но живёт же всё-таки. И как порою меня мучает! Иду спать; буду думать о ней». |
8 октября (суббота). А о Вере я на днях узнал следующее: живут они на юге Франции. Ясно, что они не вернутся совсем. Меня это даже не тронуло. Теперь у меня такое ощущение, что любить я могу только математику. Надо понимать это в самом специальном значении слова. Потому что всё-таки, несмотря ни на что, в каких-то далёких закоулках сидит уже убеждение, что единственная настоящая любовь моя, любовь в истинном значении этого слова Verwandschaft (на немецком языке — родство), а не общность интересов la beauté (на французском языке — привлекательность физическая) была и будет Вера. |
Друзья по гимназии
Павел очень дорожил каждым новым знакомством. Занятия в университете шли слабо. Каждый студент искал работу хотя бы с минимальной оплатой. Но Павлик не потерял своих гимназических друзей, и они его не забыли — Андрей Обух и Вася Попялковский.
«Вася пришёл играть в шахматы», — читаем в дневнике.
1918 г., 13 ноября (среда). Вечером был у Андрея. Сидели вместе с Владимиром Александровичем (отец) и Колей (брат), говорили о политике. Было уютно и приятно... У них летом (т.е. в отсутствии Андрея и Коли) был Ленин; он приезжал знакомиться с «так называемыми ребятами». Владимир Александрович сказал, что они уехали. Ленин привёз три экземпляра своей книжки «Государство и революция» с автографами: одну — «Моему старому другу Обуху от автора», а две — «Молодым друзьям». |
1918 г., 17 ноября (воскресенье). Попал наконец к Андрею. Он нисколько не изменился, было весело и уютно. Коля и Владимир Александрович были с самого начала. Несколько позже пришла Варвара Петровна. Говорили о политике, причём выяснилось полное единство взглядов и мнений, читали (тоже политическое), Андрей играл на рояле, пили чай. Снова почувствовал, что Андрей мне очень близок и дорог. |
Первое празднование Октября. 16 часов. Продолжаю своё повествование. Дома я узнал, что Андрей приехал 5-го; но поймать его не смог, так как он, так же как и Вася, шлялся по улицам и концертам. Тогда я, с неизвестно откуда взявшейся энергией, сам отправился в поход (от 20 час. до 22 час.). На улицах масса народу. Знамёна, плакаты, цветы; здания иллюминованы, громадное число прожекторов бороздит небо, там и сям взлетают ракеты. В общем, картина действительно необычайная и интересная. Вернулся я только потому, что у меня разболелся зуб. Только когда я лёг, я почувствовал, насколько устал; проспал чуть не 13 часов. В пятницу утром я позвонил Андрею, поговорили так, как будто расстались вчера, а не полгода тому назад. Я хотел к нему пойти, но он собирался на съезд Советов, так что решено было отложить до вечера. А днём ко мне звонили: Андрей заболел, по-видимому, испанка; если я хочу получить билет на съезд, то я должен немедленно приехать к нему и привезти валерьянки. Сообщаю об этом Лине и отцу, те против: «Заразишься!». Несколько позже звонит и сам Андрей: ему очень плохо, а лежит он совершенно один. Я хотел было ехать к нему потихоньку, о чём и сообщил ему, но он не захотел. Лина всё твердила, что ей очень его жалко, но нельзя рисковать, а отец в конце концов решил, что мне всё же надо к нему отправиться. В это время, однако, успела вернуться Варвара Петровна. Андрей велел ей скорее звонить мне, чтоб я не ехал. — Сегодня он уже почти здоров, но заболел Коля и, кажется, Владимир Александрович. |
26 ноября (вторник). Вчера вечером был у Андрея. Мы вчетвером (с А. В. Орловым) провели время так, как когда-то всегда проводили: играли «собачий вальс», шумели, хохотали искренне, по-настоящему, до упаду. |
4 декабря (среда). Говорил по телефону с Андреем. Узнал, что он едет в Свибло (на дачу Обухов), но не вместе с Колом (так часто автор «Дневника» называл Колю), т.е. не завтра, а несколько позже. |
18 декабря (пятница). Сегодня вечером говорил с Андреем, он через неделю, по-видимому, уедет в Свибло. Возможно большее сближение с Колом. Ему обещали для нас обоих работу по электричеству. |
25 декабря (пятница). Встретился с Андреем после его приезда с Урала. Попали на «Лакмэ», если не ошибаюсь, в середине второго действия. Ерунда отчаянная, но не плохо. |
25 декабря и следующие дни. Темнота в квартире. Темнота и холод. |
1919 г., 3 января (пятница). Не писал целых восемь дней, не до того было. В прошлую пятницу благополучно сдал механику. В тот же день уехал Андрей. Кол совсем не собирается ехать. Причём я не успел не то что повидаться с ним, но даже попрощаться до телефону. |
...Павел начал применять придуманное им же новое обозначение времени. Первая или две первые цифры обозначают месяц, следующие две — число, 0 — воскресенье, 6 — суббота. Таким образом получается:
2162 (февраля 16-го, вторник). Коля приехал из Оренбурга. |
2222. Вечером с Андрюшей и Бошой (друг Владимира Александровича), обладающим необыкновенно сильным голосом, на «Хованщине» в музыкальной драме. |
2034. С Андреем встретился впервые за полгода с лишком, болтал неизвестно о чём, необычайно долго. |
3034. С Андреем на «Узор из роз» во II студии. Настолько хорошо, что я даже поплакал. Андрей решил, что я каким был, таким и остался. |
3139. 1920 г. Андрей должен был быть один в квартире. Но заявился некий Василий Васильевич (знакомый Владимира Александровича) из Ярославля, который тоже остался на ночь. Болтали мы с Андреем (до 0,3 или даже ещё позже) о всякой ерунде, но было очень уютно. |
3140. Прямо от Андрея, захватив его с собой, — на концерт в Большой театр. С Андреем нас было 10 человек, что вызвало некоторые нарекания (без последствий) со стороны капельдинера. |
(Павлик часто бывал у Обухов. Он полюбился родителям Андрея и Коли и провёл много прекрасных часов в этой достойной и доброй семье.)
Город Ковров
Уехал в Ковров. В поезде занимался: 56 страниц на французском языке Лежен Дирихле. Поезд запаздывал. Лекций в этот вечер читать не пришлось. |
10262. Приехал 032. После долгих размышлений отправился по данному мне адресу к Александру Николаевичу Барсукову. У него же и остановился. Старый большевик, математик (кончил вместе с Вячеславом Васильевичем Степановым и Иваном Ивановичем Приваловым, хорошо знает их). Энтузиаст, организатор, очень способный, кажется, из крестьянской семьи. Живу, как у Христа за пазухой: питаюсь, читаю Локка — «У врат Самарии». Кстати, среди моих слушательниц есть одна — Г. Старое сопоставление: Кент воплощает «У врат Самарии» в себе моего «переживателя». А «наблюдатель» над ним посмеивается. Я не видел, какие глаза у мадемуазель Г. Но я убеждён, что голубые. Да, забыл совсем. Надо же написать о моём первом выступлении в качестве лектора. Читал три часа подряд — университетский курс» Не устал и говорил вполне гладко. И был бы совсем на высоте, если б знал то, что говорю (для введения в анализ я ещё чуть-чуть просмотрел; но анализ геометрический читал прямо по памяти, это через 4½-то года). Кроме того, немного слишком спешил, так что многие не понимали. Однако образуется. |
10284. Всё то же. Читаю Уэльса, Джерома etc. Ем до животоболия. И читаю лекции до потери голоса. Теперь меня понимают лучше. А местные люди очень уговаривают меня переселиться сюда совсем на очень выгодных условиях. Ну, это дудки. Я со скуки помер бы, пожалуй. Даже и сейчас скучаю, в общем. Какие глаза у мадемуазель Г., я так и по сей день не знаю, хотя и вижу её каждый день. Но дело в том, что мои дорогие слушатели питают ко мне, по-видимому, мистический ужас и заговорить, во всяком случае, не решаются. Для престижа это, пожалуй, и хорошо, но... Младшая сестра Барсукова — девушка лет 17-ти, довольно хорошенькая; эта совсем меня не дичится и даже охотно вступила бы в беседу. Но тут уже я сам держусь в стороне из соображений престижа: по отношению к Александру Николаевичу; это, думается мне, весьма существенно. |
10295. Начал заниматься и, кроме того, прочёл «Росмерсхольм» (Ибсен), всё лучше, чем Локка или Джерома. А от лекций почти потерял голос. |
10306. Прочёл «Привидения» (Ибсена). А потом бездельничал и читал Эдгара По. Вечером, перед лекцией, беседовал немного с Женей Г. Она москвичка, только 2,5 года оттуда; кончила гимназию в прошлом году, а теперь преподаёт математику в пятом классе. Говорят, что хороший математик. Не глупа и, по-видимому, довольно милая, но... чего-то ей не хватает. Довольно недурна собой, даже несколько вздёрнутый нос не мешает. Цвет глаз мне так до сих пор не известен, хотя я упорно рассматривал; но было слишком темно. Кажется, тёмно-голубой. Наружность, во всяком случае, мыслящего человека. Но... безвкусная кофточка (с каких это я, чёрт возьми, пор стал обращать на это внимание?). И совсем девочка. Александр Николаевич и все прочие зовут её попросту Женей. Голова болит до чёрта. Лягу рано спать. |
10310. Проспал чуть ли не 0.12 подряд; встал с твёрдым намерением засесть заниматься. Однако до обеда читал По. Ерунда отчаянная. После обеда всё-таки немного позанимался. |
11011. Ходил на базар за покупками, читал Достоевского «Сон смешного человека». Лекции прочёл хуже, чем когда-либо. А с Женей Г. мы через несколько дней стали б друзьями; но я завтра еду. Поболтали сегодня немного. Она замечательно славная. А всё-таки чего-то не хватает. Получил письма из дому и дико им обрадовался. |
Мешкиада,
или Весёлое возвращение домой
(записано в Москве 11 055)
11022. В этот день я хотел написать следующее: «Получил 36 000 рублей и все продукты, уложился и сейчас еду; завтра утром буду в Москве. Одним словом, «всё к лучшему в этом мире». И чувствовал себя весьма счастливым. Написать, однако, поленился. Теперь же эта фраза звучит иронией (хотел было написать «горькой», но подумал, что никакой горечи, собственно говоря, и в помине нет). А вышло вот что. |
11033. Драма в пяти действиях с прологом.
Пролог — выяснение ситуации. Я должен поехать с товарищами Тихонравовым и Акимом Герасимовичем в Москву с почтовым поездом, притом в штабном вагоне. Но разрешение на штабной может дать только комендант следующей станции — Новки. С ним говорили по телефону, и, кроме того, у Тихонравова есть записка, тот обещал. А до Новок machen Sie wass Sie wollen (по-немецки — делайте что хотите), хотя предполагалось, что нас в штабной впустят «впредь до выяснения».
Действие I. Ковров. У меня мешок в один пуд и чемодан в 1,5. Аким Герасимович, у которого почти никакого багажа, взялся нести мой мешок. Около 03 появился поезд. После рассмотрения бумажки Тихонравова в штабной не пустили. А всюду полным-полно — висят. Кое-где не висят, правда. Но это «специального назначения» — арестантский, караульный, кассовый... В последнем (т.е. на площадке его) попробовали устроиться. Выставили. Так и метались как угорелые до третьего звонка. И после. А когда поезд тронулся, я «с мужеством отчаяния» влез на последнюю ступеньку, дал находящейся передо мной девице держать чемодан, а сам кое-как уцепился за архинеудобные наклонные поручни. Сел как будто и Тихонравов. А Аким Герасимович бежит вслед: «С вашим мешком я не сяду!» — «Давайте сюда!» Положил его на последнюю ступеньку между ног, ногами же и держу кое-как. А коленями подпираю чемодан, который девица иначе не может удержать. Скользко до чёрта! Аким Герасимович тоже сел — на последнюю ступеньку соседнего вагона. Едем.
Действие II. Ковров — Новки. Мешок ползёт, ползёт, ползёт. Я отпускаю один поручень и кое-как водворяю его на место. А девица: «Не могу больше держать!». И ведь правда — 1,5 пуда. Я сильнее упираюсь коленями. Но тотчас же мешок начинает сползать с молниеносной быстротой. Я едва успеваю схватить его пятками; и вот он висит, больше чем наполовину перегнувшись вниз (под ступеньку). Отпускаю поручень, нагибаюсь и... в тот же момент он летит на полотно. «Всё кончено!» Я этого не подумал, но такое у меня было состояние полнейшего отчаяния. Но быстро утешился: хорошо, что не чемодан... и хорошо, что не я. Но и то, и другое ещё вполне может случиться: мы проехали только 2 версты (мост), а всех 14. Девица отказывается держать, а мои руки отказываются держаться: немеют. Всё хуже и хуже. Однако девица держит, и я держусь. Но всё время мысль: «Сейчас отвалюсь». Страху никакого, просто физическая боль в руках, которая становится всё нестерпимее. И решимость держаться coute que coute (по-французски — во что бы то ни стало). И уверенность, что удержусь-таки. Я пробую считать: «До 10000 досчитаю и буду там». Но дошёл до 80 и бросил. Не могу. А что там виднеется вдали? Огонёк, кажется. Да, огонёк. Сейчас приедем. Ближе, ближе. Это семафор? Семафор. Да ещё с зелёным огнём! Значит, не станция! «Ах чёрт возьми!» — выругался я громко. Девица не отвечала. Верно, и ей несладко. Но... это что такое? Водокачка? Значит, всё-таки станция. Ура!! Приехали, приехали! Останавливаемся! Остановились! Я слез, слез и Аким Герасимович. А Тихонравова не видать.
Действие III. Новки. «Товарищ Ти-хо-нра-аво-ов! Товарищ Ти-хо-нра-а-во-о-ов!!» Никакого ответа. Что делать? Бумажка-то у него. «Я пойду к коменданту». — «Что толку?» — «Ему ведь звонили, может быть...» Но никто не знает, где комендант. Бегаю по всей станции, ни одного местного человека. Наконец узнаю: за водокачкой. Боже, какая даль! Бегу полным ходом. Влетаю к нему... «Пошёл к штабному вагону». Лечу назад. Вот уже последний вагон около меня, как вдруг... бум, бум, бум, и... Аким Герасимович печально стоит на платформе рядом с моим чемоданом. А Тихонравов, как оказалось впоследствии (тогда мы думали, что он остался в Коврове), благополучно уехал в Москву.
Картина. Агитпункт станции Новки, куда мы попали по протекции некоего знакомого Акима Герасимовича. .05. Лежим на скамейках и спим. В .033 он позвонил в ковровский президиум исполкома, чтобы «принять меры» к нахождению моего мешка. Плохая надежда! Он решил вернуться. Я, после некоторых размышлений, тоже; всё равно ждать до вечера.
Действие IV. Новки — Ковров. Случайно подвернулся товарный. Сели на тормозную площадку. Всю дорогу до полотна — свежие шаги (шёл снег), так что надежды никакой. Но после моста вдруг прекратились. Правда, есть по другую сторону полотна, так что всё-таки почти что безнадёжно. Гляжу с замиранием сердца. Вот он! Лежит сиротливо с обнажённым видом... «Аким Герасимович, подождите меня на вокзале! Не забудьте мой чемодан!» Спрыгнул (поезд еле-еле плёлся). Схватил мешок — и ходу! В 10 был «дома».
Картина «Дома». Сплю, т.е., собственно говоря, больше читаю Дюма «20 лет спустя». Но, во всяком случае, валяюсь. И так до .18. Потом забираю свои бебехи и плетусь iterum (по-латыни — опять) на вокзал. В те времена меня очень удивляло, почему я не могу их сам поднять на плечи и только с большим трудом несу. Дома, свесив их, понял. Понял также, почему у меня болят biceps'ы (бицепсы).
Действие V. Ковров — Владимир. На товаро-пассажирский сесть удалось, и даже вполне благополучно, т.е. не на площадку, а в самый вагон. И притом с видами: в Новках с двойной верхней полки слезают три обитателя из четырёх. Кандидаты: я и некая «бабка». Первым, однако, влез некандидат — солдат, севший в Новках. Но и мы влезли. Наверху — форменная баня. Дышать нечем. И тесно. Но всё-таки лежать можно. И я приблизительно сплю. Так кончаются эти сутки. |
11044. Во Владимире появился милиционер и велел очистить одно отделение для раненых. В этом отделении находился я. Я, правда, не «очистился», но потесниться пришлось очень и очень: остальную часть пути пролежал, согнувшись в три погибели. С вокзала нанял тачку; домой попал в .14. Встречен был восторженно. А вечером пошёл на концерт (камерный — прог.), от которого имел превеликое удовольствие. |
Профессор Н. И. Гальперин вспоминает, что он поступил в университет в 1920 году и сразу же узнал, что в университете имеется талантливый математик Урысон. Одет Павел был очень скромно: в чёрном костюме, мягкий белый воротник, вязаный галстук. К Павлу подходили, где бы он ни находился. Даже в профессорскую, в перерыве во время заседания, и просили решить какую-нибудь сложную задачу.
Для Урысона не было трудных или неразрешимых задач. Чем сложнее была задача, тем ему было интересней.
Однажды был семинар по теории функций. Кто-то из математиков читал лекцию. Присутствовало много преподавателей, были и студенты старших курсов. Преподаватели задавали вопросы. Павел Самуилович молчал. Но вот он поднялся и с поразительной точностью воспроизвёл весь доклад. И потом мягко, деликатно доказал, что доклад с начала до конца ошибочен. Оказалось, что докладчик принял за основу книгу одного французского автора. Но тот исходил из неправильных посылок. Надо было обратиться к более глубоким источникам.
Бурково
Летом 1922 года два друга, два Павла — Павел Урысон и Павел Александров, — облюбовали себе дачное место по Ярославской дороге иод названием Бурково.
Переезд на дачу шёл крайне своеобразно. На матраце Павла, крепко скатанном и завязанном верёвками, жирными чернилами было выведено: «Урысон». Брал он с собой громадный чугун, между тем как ехал на дачу только с Александровым. Сервировка предполагалась более чем скромная. У каждого была металлическая тарелка, металлическая кружка, нож, вилка и ложка. Все посмеивались, воображая, как оба Павла будут сидеть на полу, поджав ноги, перед большим чугуном.
Дорога шла улицами, если можно было так назвать эти заросшие травой тропы.
Дача находилась на углу III линии и Лугового проспекта.
Они дошли до своей дачи, когда уже слегка темнело. Это были лучшие предвечерние часы. Стадо возвращалось домой.
— Где же нам взять молока к нашему гороху?
— Молока? Если гороха вдоволь — можно без молока.
Прошло несколько дней. Павел Сергеевич пришёл к выводу:
— Горох определённо пахнет мышами. А полотенце после купанья пахнет простоквашей. И в итоге требуется консультация опытного, сведущего в хозяйственных делах человека.
Павел Самуилович развёл руками, что означало: «Иди ищи!».
И вдруг вспомнили. Дачная хозяйка рассказывала, что на соседней даче живёт большая семья и заправляет этой семьей старушка, изумительная кулинарка — Наталья Варфоломеевна.
И тогда решили:
— Надо взять чугун с горохом, купальное полотенце и пойти к этой старушке.
Молодые учёные полагали, что их дачный наряд вполне соответствует такому случаю. Они отправились так, как были одеты с утра: в трусах, а поверх — рубашки. Не забыли и большой котёл с кашей и купальное полотенце.
Но когда они подошли к чужой даче, они несколько оробели. Вся семья была на террасе.
Павел Сергеевич, как более смелый, махнул рукой: была не была. Раз решили, чего теперь ретироваться. И «повар» со своим чугуном последовал за ним. Повернуть обратно они уже не могли, было поздно. Блеск ярко начищенного самовара сразу осветил всё великолепие дачного стола — скатерть, бесконечное множество ложек, тарелок... Всё сверкало в утренних лучах солнца. Девочки в косичках с бантами, молодая женщина. У самовара сидела, нет, не сидела, а восседала «старушка» — крепкая, коренастая, пожилая женщина.
Молодым учёным ничего не оставалось, как изысканно поклониться и смело направиться прямо к хозяйке. Начал Павел Сергеевич как старший.
Хозяйка подняла глаза. Лицо её было спокойным, но глаза смеялись. В самую пору всем троим можно было рассмеяться. У Павла Сергеевича в серо-зелёных глазах уже блеснул подозрительный огонёк, после чего обычно следовало короткое фырканье и неудержимый смех. Но он сдержал себя. А «старушка» деликатно спросила:
— Сколько раз вы мыли горох?
Павел Сергеевич, едва сдерживая смех, повернулся к повару — Павлу Самуиловичу.
Тот нисколько не смутился. Но, сохраняя достоинство, скромно ответил:
— Мыл, как же.
Наталья Варфоломеевна улыбнулась.
— Видите ли, надо было промыть несколько раз, до тех пор, пока не исчезнет запах.
Потом Наталья Варфоломеевна объяснила, что варить горох надо на медленном огне...
Старший «хозяйственник» все ещё с подозрительной смешинкой смотрел на «повара».
А «повар» вежливо кланялся и благодарил консультанта:
— Очень вам благодарен. Я так и сделаю.
Но когда Павел Сергеевич предложил Наталье Варфоломеевне второй вопрос, почему полотенца после купанья пахнут простоквашей, она только развела руками:
— Откуда же может быть запах простокваши, когда молока и в помине нет?
Оба математика почтительно откланялись и, толкая от смущения друг друга, двинулись к своей «даче». Тут только, усевшись на пол, поджав под себя ноги, они принялись хохотать.
Второй визит
Музыка по вечерам услаждала друзей-математиков. Они были большими любителями и знатоками музыки. И вдруг такая радость: в тиши и глуши, можно сказать рядом, чуть ли не у себя дома, — замечательные концерты. И часто сопровождающее музыку лирическое сопрано.
Но вслед за радостью — великое смущение. Ведь это на той же даче, куда они ходили за консультацией.
— Ничего не значит, — серьёзно сказал Павел Сергеевич, — то кухонные дела, а тут музыка.
Павел Самуилович серьёзно поддержал:
— Конечно, нельзя же пропускать подобные вечера.
Однажды вечером молодые учёные надели свои единственные летние костюмы, в которых приехали из Москвы, и на этот раз официально и торжественно пошли знакомиться со своими соседями. Всё было сделано, как полагается. Названы были фамилии, занятие, специальность. Но главным был общий интерес к музыке. Мария Леопольдовна много пела. Никогда не отказывала гостям, пела всё, что они просили. А дочь Люся, школьница тринадцати лет, ей аккомпанировала.
Прекрасно звучал Чайковский в лирическом сопрано Марии Леопольдовны. Вдохновенно было миловидное лицо певицы. Трогателен был юный облик аккомпаниаторши. Павел Сергеевич следил за нотами. Взгляд его был серьёзный и напряжённый, как всегда, когда он слушал музыку. А Павел Самуилович держал тяжёлую керосиновую лампу. На губах блуждала сияющая улыбка, сильная рука уверенно двигалась в такт музыке.
Тихо и темно было во всех домиках в Новых Горках. В открытое окно врывался лишь тёплый ветерок. Даже птицы умолкали, слушая дивное пение. Далеко разносились звуки рояля. Отошли заботы. Легко дышалось в прохладном вечернем воздухе. И огромная Москва, шумная, столичная, деловая, учебная, куда-то на время отходила, далеко, далеко...
Гроза
Лина приехала навестить брата, но дома его не оказалось. Она привезла с собой немного еды, получится роскошный обед. Но брат отказался обедать.
— Ну зачем всё это нужно? Я лучше пойду на речку заниматься. Возьму с собой хлеб с маслом и солью. А обедать буду не раньше пяти-шести часов. Ведь есть же варёный горох, а больше ничего и не требуется. Жаль на всё это тратить время.
К вечеру погода испортилась. Вдали глухо загремело. Небо сразу посерело. Пошёл дождик, сначала мелкий, а потом застучал по крыше крупной дробью и по маленьким стёклам избушки растёкся мутным потоком. Начался ливень.
Где же Павел? Сестра беспокоилась. Успел ли он где-нибудь укрыться?
Павел появился неожиданно. Он шлёпал босыми ногами по лужам. Книги и бумаги были завёрнуты в полотенце. По лицу ручьями сбегала вода. Но глаза сияли. Он совсем не спешил. Нисколько не спешил.
Гроза бушевала. Гремело вокруг. Прорезалась молния и осветила, как в сказке, избушки, покорно стоявшие под ливнем. Улица опустела. Только редкие прохожие спешили, обгоняя друг друга, к поезду.
Павлик возился рядом в комнатёнке и неожиданно появился в своем берлинском «Пек и Клопенберговском» пальто, с тощим рюкзаком за спиной.
— Ты куда? — удивилась сестра.
Голос Павла звучал очень серьёзно:
— Сегодня в магазин на станции должны привезти конфеты. Хочешь, Линочка, пойдём со мной? Тут тебе делать нечего. Керосин у нас кончился. Свечей я даже в Москве не мог достать.
— Идём! — сразу согласилась сестра. — Это интересно!
Прогулка оказалась нелёгкой. Туфли, в которых Лина приехала, скрючились, в них было совсем невозможно идти.
Павел шагал сосредоточенный и беспокойный, В магазине на станции конфет не оказалось. Продавец объяснил, что их не удалось доставить из-за дождя. Павел едва дослушал объяснение: конфеты, без которых он совсем недавно не мог жить, больше его не интересовали. Он поспешил уйти из магазина.
— Идём, Линочка!
Снова та же дорога. И лицо Павла, освещённое бликами молнии. Губы плотно сомкнуты. Шли молча. Павлу ни до чего не было дела. Величественная картина захватила его. Молча пришли домой. Так и легли спать, не обмолвившись ни словом.
Музыка
Музыка. Он учился музыке, но решительно от неё отказался. Но музыку он любил страстно, знал и понимал её. Особенно он любил серьёзную музыку — симфоническую и камерную.
И тогда, когда он в отроческом возрасте отказался от музыки, и впоследствии, когда математика поглотила его, он повторял:
— Музыку я не оставлю. Я не могу жить без музыки.
Его учительница детских лет по русскому языку и арифметике рассказывала про Павлика.
«Я встретила Павлика в трамвае. Он спешил на концерт. Я удивилась: «На концерт?» Павел ответил: «Музыка и математика нераздельны».
В последний раз она видела Павла в 1923 году. Он снова спешил на концерт.
«Какой же я был бы математик, если б не любил музыку?»
В дневнике Павла немало строк о музыке. В студенческие годы Павел постоянно ходил на концерты. Он вовлекал в посещения концертов своих родных, товарищей, знакомых, друзей. Павел радовался, когда ему удавалось приобщить нового человека к музыке. Его знали капельдинеры Консерватории. Иногда у всей компании не было билетов. Павел ходил на концерты ежедневно. Но случалось и по два, а то и по три раза в день.
У Павла были знакомые в оркестре. Профессор С. П. Фиников рассказывал, что попал по рекомендации Павла на концерт в Доме учёных (квартет Страдивариуса). Они с Павлом сидели в первом ряду. Вдруг Павел потянулся к нотам скрипача, чтоб посмотреть их. Профессор удивился: такой воспитанный человек и позволяет себе такую вольность. Но скрипач оказался знакомым студента Урысона.
Иногда у Павла вовсе не было денег. Но он никогда не задумывался потратить последние на концерт.
Он иногда говорил: «Музыка и математика едины. Музыка — самое эмоциональное из искусств. Она выражает чувства и обращается к чувствам. Математика — самая интеллектуальная из наук, она обращена к разуму, к логическому началу в человеке. Эти противоположности сходятся и действуют одна на другую. Музыка помогает математику в его творчестве. Самая отвлечённая из искусств помогает самой отвлечённой из наук. В стройности математических доказательств имеется своя поэзия и своя музыка.
Воспринимают музыку люди по-разному. Одни наслаждаются красотой звуков, гармонией мелодий, воспринимают чувства и мысли, вложенные в эти мелодии, ритмы, формы. У других музыка вызывает более конкретные представления, воспоминания».
Павел несомненно принадлежал ко второму типу. Он прекрасно понимал и воспринимал музыкальную форму. Он почти всегда остро ощущал за ней и определённое жизненное содержание. В своём дневнике Павел пишет, какое эмоциональное содержание, образное впечатление произвела на него 7-я соната Бетховена. Особенно её стремительная часть, исполненная оркестром под управлением замечательного дирижёра Сергея Кусевицкого.
Павел описывает план собственной симфонии. Он придумал только один небольшой мотив, описывает характер частей, последовательную смену настроений, то есть какую-то своеобразную логику музыкального развития.
Павел очень любил Бетховена. Особенно симфонии. Самая любимая была 7-я. А затем все нечётные: 1-я, 3-я, 5-я и последняя, 9-я. Любил он и бетховенские сонаты. Больше других 8-ю, 14-ю, 21-ю, 22-ю, 23-ю и 27-ю. У пианино Павел любил разбирать музыкальные формы той или другой сонаты. В сонатном аллегро часто искал главную и побочную темы. Искал смену тональности, так называемую репризу. В рондо — повторение I темы.
Люся, совсем ещё девочка, пишет в своём дневнике:
«Отлично представляю себе его жест: он выстукивает пальцами ритм и всё остальное выражал пением, подергиванием головой. Мне со стороны нисколько не было смешно».
Ещё Павел очень любил 8-ю скрипичную сонату. У Чайковского 1-й фортепианный концерт и 6-ю патетическую симфонию, а также 4-ю и 5-ю. Довольно равнодушно Павел относился к опере. Совсем не любил итальянских. Не нравилась даже «Кармен» молодому учёному. В 22 году Павел был в опере два раза. А на концертах до трёх в один день.
Как у математика, у Павла всегда всё было точно подсчитано.
5160. Итоги моих концертных хождений за год (16 мая по 15 мая): был на 56 симфонических, 18 камерных (и фортепианных), 5 сборных и разных, 5 опер и 1 балет. Итого 85 раз. |
Работа
К любой работе Павел относился с уважением, к любому труду подходил очень рационально. Нельзя ли его упростить или облегчить.
1918 г., 28 ноября (четверг). Вчера днём к нам прибежала Поля с пишущей машинкой в руках: она собирается уезжать. Я тут же засел стукать и сегодня уже достукался до 50 букв в минуту. |
1918 год. (Павел поехал в качестве воспитателя в колонию со своей гимназией.)
7143. Со старшими мальчиками я усиленно валю лес: работа интересная и приятная. |
2286. Снеговая повинность. Много работал киркой. |
1154. Чистка снега (и ещё с пятью) на линии. Усердно. Работал в университетской библиотеке. Вымазался невероятно. |
10315. Замазал себе окно. Устал до чёртиков. |
Следующая запись в дневнике:
Перевёл папу на зимнее положение в кухню. Будем топить плиту. Таскал дрова из сарая. |
Близился 1921 год.
Дневник неожиданно обрывается. Он надоел Павлу. Чем он больше занят, тем скупее слова в дневнике. Времени мало.
3185 и 3196. Снова дни работы. Вчера занимался 7 часов, сегодня 5 часов. Вместе с 3174 (Бохер) книжка в 116 страниц! Похороны Жуковского. |
3200. |
Пустое место. Павел ничего не написал.
Павел вёл свой дневник с 4 января 1918 года до 20 марта 1921 года, то есть свыше трёх лет. Павел отдавал ему много сил, времени, раздумий.
Доклады Павла Урысона
В Московском университете существовал математический кружок. 27 октября Павел Урысон сделал там первый доклад.
Он был студентом первого курса, и ему было семнадцать лет. Сохранился корешок билета за № 19 Павла Урысона, написанный карандашом его рукой. О его докладе рассказывали товарищи. Павел спокойно поднялся. Он привык выступать в университете Шанявского. Павел стоял перед аудиторией, в его глазах светилась радость творчества. Молодёжь, может быть, впервые тоже радостно откликнулась на стройные, логично построенные мысли Урысона. Единение докладчика с аудиторией было первым праздником молодого математика Урысона.
Сохранился протокол заседания того же математического кружка от 21 января 1919 года. Павлу был уже 21 год. Внешне он мало изменился, такой же мальчишеский вид, но взгляд стал глубже. Он пришёл с первым научным докладом: «Об одном типе нелинейных интегральных уравнений».
Аудитория слушала с большим вниманием. Об Урысоне, как выдающемся математике, много говорили. Это было его первое открытое научное выступление. Оно запомнилось, о нём заговорили, передавали друг другу. Об Урысоне знали уже на математических факультетах других высших учебных заведений.
Единственный человек, который не сделал из своего доклада никаких выводов, то есть не продлил ему научной жизни, был сам автор.
Об этом мы узнали много лет спустя. В 1951 году в первом томе трудов П. С. Урысона приведены слова Павла Самуиловича, напечатанные им 21 августа 1922 года.
«Настоящая работа была написана в ноябре 1918 года и не напечатана своевременно по техническим причинам, связанным с трудностями того времени. Её изложение не таково, каким бы мне в настоящее время хотелось его видеть (устарелый, с точки зрения теории функций, язык, некоторые неточности, легко, впрочем, исправимые). Но приняться за её переделку теперь, когда я занимаюсь вопросами совсем иного характера, мне не представляется возможным; поэтому остаётся одно из двух: либо не печатать её вовсе, либо напечатать её так, как она есть. Я решаюсь на второе, так как мне кажется, что рассматриваемые здесь вопросы представляют всё же некоторый интерес и что изложенные причины позволяют мне надеяться на снисходительность читателей».
В 1921 году Павел выступает 20 февраля в Московском математическом обществе с докладом «Об одном типе нелинейных интегральных уравнений».
Интересно отметить, что в этом же 1921 году впервые встретились два математика — Павел Урысон и первокурсник Андрей Колмогоров. Это было в студенческом кружке. Колмогоров выступал со своей первой работой — решением задачи, поставленной Н. Н. Лузиным на его лекции. Павел сидел с С. С. Ковнером. Семён Самсонович вспоминал, нак Урысон одобрительно кивал головой и приговаривал: «Чисто делает! Чисто делает!».
16 октября того же года с другим докладом: «О размерности множеств». И 20 ноября с новой темой: «Общие теоремы размерности».
Наступает 1922 год. Павел много и усиленно работает.
Профессор Л. А. Люстерник рассказывает: «Я провожал Павла Самуиловича из университета домой, в Старопименовский переулок, и получил в своей работе («О методе сеток») большую моральную поддержку». Ещё Л. А. Люстерник вспоминает, как на него и Л. Г. Шнирельмана произвёл сильное впечатление доклад Павла Самуиловича «Задача о трёх геодезических». Не раз оба друга, Шнирельман и Люстерник, говорили, что интерес к топологии пробудил у них Павел Урысон.
Он снова выступает с докладами в Московском математическом обществе:
19 февраля: «Индекс ветвления».
28 мая: «Размерности точек n-мерного пространства».
Популярность молодого учёного росла. Время было очень тяжёлое. Было голодно. Мечтали о куске хлеба, намазанного маслом, о кусочке сахара.
В квартире было так холодно, что Павел ходил дома в пальто. Иногда он спасался наверху, в квартире у сестры, но и там было немногим теплее.
Именно в это трудное время подружился Павел с Вячеславом Степановым. Оба любили свою науку, оба интересовались музыкой. Эта дружба сильно скрасила их жизнь.
Профессор Дмитрий Федорович Егоров отметил Урысона, высоко оценил его научные работы, полюбил молодого учёного за его скромность и доброту.
Вокруг Павла Урысона всегда царила атмосфера доброжелательности, готовность всегда прийти на помощь.
Павел неизменно оставался строгим к себе, самокритичным, очень много работал.
Заграничная командировка
Афиши
Готовилась первая научная командировка Павла за границу. Конечно, для Павла, да и для всей семьи, это было большой радостью. Но прибавилось много и забот: командировки были безденежные. Средства на поездку, и немалые, надо было добывать собственным заработком. Для этого оба друга, Александров и Урысон, должны были прочесть публичные лекции.
Прежде всего предстояло получить на них разрешение с минимальной затратой денег и с правом продажи билетов. Кто мог скорее всех помочь во всех хлопотах официального порядка, как не родной университет? Лекции были назначены на январь 1923 года, объединены в цикл под названием: «О математическом познании мира в свете теории относительности. Лекции не предполагают специальной математической подготовки слушателей. Начало всех лекций в восемь часов вечера. Билеты продаются в Петровской и Тверской театральных кассах, а в дни лекций при входе с пяти часов вечера».
Богословская аудитория
Институт научной методологии устраивает 12, 14, 16 и 17 января четыре лекции преподавателей Московского университета П. С. Александрова и П. С. Урысона.
Очень большая Богословская аудитория была переполнена. Публика собралась весьма разношёрстная. В конце длинной афиши было сказано, что лекция не предполагает специальной математической подготовки. Вероятно, многие впервые поднимались по широкой мраморной университетской лестнице, впервые входили в полукруглую Богословскую аудиторию и с невольным любопытством оглядывались по сторонам. Скамьи этой аудитории массивны и неподвижны, спинки их непомерно высоки, смотреть можно только вперёд и ждать, когда из маленькой двери, выходящей на сцену к огромной чёрной доске, выйдет математик, который решил прийти со своей сложной наукой к людям, которые никогда ею не занимались. Конечно, в аудитории были и математики. Они пришли познакомиться с новой наукой — топологией и со смелыми, энергичными людьми, о которых слыхали, Александровым и Урысоном, которые эту науку разрабатывали. Раздевалка была закрыта. Все сидели в пальто. В огромной университетской аудитории было холодно. Конечно, родные лекторов давно запаслись билетами.
Пришёл и отец Павла. Павел был окружён друзьями-математиками, был он оживлён и весел, как всегда. Думал ли он о своей лекции? Можно с уверенностью сказать, что нисколько не думал. Хорошо бы не уклониться в сторону от темы, объявленной в программе.
Отец Павла, который придавал большое значение внешнему виду лектора, подозвал к себе младшую дочь, Лину.
— Смотри, — сказал он ей, — Павел не счёл нужным поправить свои волосы. Это выглядит неаккуратно.
Лина незаметно отозвала брата, увлекла его в тёмный угол коридора:
— Павлик, наклонись ко мне, я поправлю тебе чуб.
Павел послушно, но с улыбкой наклонился к сестре. А Лине бросилась в глаза тоненькая седая прядка в чёрных волосах.
Павел неожиданно появился из низкой двери на сцене. Он был в своём парадном чёрном костюме, отсвечивавшем на солнце лиловыми пятнами. Смущённый обращёнными к нему взглядами, он немного неловко поклонился и показался ещё более юным. Но он очень быстро освоился с положением лектора и, почти не глядя на аудиторию, ушёл в математический мир. Глаза засияли внутренним огнём, на лице появилась улыбка.
В аудитории стояла напряжённая тишина. Этот высокий стройный юноша, который с таким знанием вопроса и так увлечённо вычерчивал линии и фигуры на доске, внушал большое уважение.
Число слушателей с каждой лекцией не уменьшалось, а увеличивалось. Огромные афиши на широких тумбах привлекали внимание.
Наступил апрель 1923 года. Было так много хлопот и столько беготни по учреждениям, что порой казалось, что этому не будет конца и к середине мая никак не успеть.
На столе лежал мандат № 3587/2459 от 4 апреля 1923 года.
«Народный Комиссариат по просвещению настоящим удостоверяет, что предъявитель сего старший научный сотрудник Научно-исследовательского института математики и механики Павел Самуилович Урысон командируется в Германию сроком на четыре месяца для научных занятий».
Затем следовали обычные слова об оказании П. С. Урысону всяческого содействия в исполнении возложенного на него поручения.
Павел написал заявление ректору московского 1-го Государственного университета. Он просил вследствие своей командировки на четыре месяца выдать ему аванс в счёт жалованья.
Последняя бумага была в отдел виз Наркоминдела от заместителя Народного Комиссара по просвещению, датированная 28 апреля за № 1024. Это было ходатайство о срочной выдаче разрешений на въезд в Германию научным сотрудникам П. С. Урысону и П. С. Александрову.
К этим хлопотам прибавлялась ещё огромная переписка с учёными, с которыми давно были заочно знакомы московские математики. Надо было заранее обеспечить встречи, выступления. В небольшой комнате Павла были разложены в величайшем порядке оттиски статей из журналов, книги, справочники, визитные карточки обоих учёных на немецком языке, того требовал этикет. Оба Павла ходили хотя и радостно возбуждённые, не очень озабоченные. Им предстояла великая и почётная задача — показать свою, советскую, топологию. Уже несколько лет никто из русских математиков за границу не ездил. Они должны были не ударить лицом в грязь, блеснуть знанием иностранных языков, безупречной манерой держаться.
Снова за границей
Люсенька Сычёва записала в своем дневнике: «17 мая 1923 года. Павел Самуилович уехал во вторник 15 мая. Накануне, 14 мая, мы были в Консерватории. Шестая симфония Чайковского, Ромео и Джульетта, финальный концерт».
Латвийская граница. Павел пишет отцу и точно отмечает время:
16.V.23, 8 ч. вечера. Здесь обменяли один доллар на латвийские деньги. Мы купили на них одну бутылку пива, конверты, марки (открыток тут не оказалось. Зилуж — такая дыра, в которой ничего нет). |
Открытка отцу от 18 мая.
Латвийско-литовская граница совсем довоенного типа: паспорта отдали с вечера проводнику (граница ночью), а вещей не смотрели. Открытку эту я опускаю в Вильковышках. |
Павлик — тончайшая струна. Отзвук её долго звучит... Он помнит, что отец его родился в Вильковышках, среди чудесных кудрявых лесов на Литве. Там он бегал с такими же мальчишками по лесам. Там родилась его любовь к немецкой лирике — Гёте и Гейне. Когда отец получит открытку, он поймёт, почему Павел ночью не спал и вышел на тёмный и пустынный вокзал, чтоб послать ему сыновний привет из Вильковышек.
Окончена далёкая дорога. Отоспались, отъелись, напились пива и скверного кофе. Как их встретит Берлин? Но публика спешила к выходу и увлекла за собой молодых москвичей.
В конце мая отец получил открытку от Павла.
Были мы за это время у очень многих математиков. Из профессоров пока только у Ландау и у Бернайса. Оба приняли нас очень хорошо. Были мы и в математическом обществе. Работаем очень много, так что писать длинные письма фактически нет никакой возможности. |
4.VI.23 г. Дорогая Линочка, пишу я тебе, собственно говоря (если не считать открыток), первый раз после двухнедельного перерыва; с одной стороны — на письма совершенно не хватает времени; с другой — я несколько обиделся, что ты ничего не писала. Наконец в пятницу (сегодня понедельник) получил твоё первое письмо, которое меня обрадовало сверх всякой меры. Хотел ответить тотчас же, но ничего не вышло, и я написал тогда только открытку. Наконец сегодня выдался свободный вечер. Вечера у нас, впрочем, довольно короткие, так как ложимся спать между 10 и 11. Встаём ежедневно в 7¾. По пятницам Seminarspaziergäng (семинарская прогулка). Это происходит так: в 4½ ч. ровно на углу Nicolausberger и Hober Weg встречаются bei jedem Wetter (в любую погоду) все математики, которые помоложе (так лет до 45), и отправляются пешком куда глаза глядят. По дороге ведут разные математические разговоры. Вчера были на званом вечере у профессора Ландау, где, кроме нас, были ещё и другие «знатные иностранцы»: копенгагенские профессора Бор и Меллеруп и голландец Лооман; были и местные математики — всего 12 человек. Началось с ужина и кончилось в 3¼ утра. Павел. |
7.VI.23 г. Линочка, сегодня тебе много писать не буду, так как писал уже папе и нужно написать несколько писем (математикам). Хозяйка наша — вдова, Frau Oberamtmann (то есть чиновница), с двумя детьми. Она очень скоро прониклась к нам глубочайшим уважением, что имеет, вероятно, двойную причину: с одной стороны — до неё дошли слухи о наших высоких знакомствах (здесь всё всем известно); с другой — доллар очень быстро растёт, а мы ей платим долларами. Дом — каменный двухэтажный особняк, сад спереди, сзади и с боков. Наша комната в первом этаже, окна выходят в тот садик, который спереди (улица из окна видна). Ключи от всех дверей у нас есть, так что возвращаться можно в любое время, что довольно существенно, так как даже в 10 веч., когда мы обычно начинаем укладываться, здесь уже глубокая ночь. Павел. |
27 июня 1923 г. Линочка, постараюсь ответить на твои вопросы. Распределение дня — so was existiert wohl gar nicht (такое вообще не существует). Каждый день в разные часы лекции или семинары крупных математиков (Hilbert, Courant, Landau). Иногда после обеда посещение Lesezimmer (читальная комната). Были Nachstunde — собрания для членов математического общества в кафе. Иногда собираются у какого-нибудь математика, собрались и у нас. Вторник — писание деловых писем и статей для математического журнала «Mathematische Annalen». Купанье обязательно каждый день. Пятница — свободный день. Воскресенье — экскурсия. Теперь о поездке в Eisenach. Приехали мы туда довольно поздно (почти в 11 веч.), переночевали и с 7 час. утра отправились в поход. Окрестности замечательные. Я никак не ожидал этого. Там имеются ущелья типа Hörmela Kliffan, только вместо нескольких аршин — 2–3 версты. В глубине ручеёк, все стены обросли мохом и отовсюду каплет. Затем Wartburg — замок на вершине горы, — тот самый, в котором происходило в 1203 году «состязание певцов», и где Luther (Лютер) переводил с еврейского языка Библию. Всё это кончилось в 2 ч. 30 м. в 4 верстах от города, а последний поезд назад — в 3 ч. 20 м. Мы бегом через весь город, всё-таки попали. Павел. |
14 июня 1923 г. Дорогой папочка! Во вторник я выступал с докладом в здешнем математическом обществе; имел большой успех. Следующий вторник доклад Пуси 2. Сюда приехал известный финский математик Линделёф (Lindelöf). |
16 июня 1923 г. Дорогой папочка, только что получили приглашение на ужин в понедельник к Гильберту — крупнейший из всех современных математиков. Завтра (воскресенье) собираемся ехать в Münden (маленький городок в 40 километрах отсюда). Целую тебя. Павел. |
21 июня 1923 г. Линочка! Ужин у Hilbert'a. Кто он такой, я тебе, кажется, уже писал. Были: несколько его ближайших учеников (молодых), известный финляндский (не финский, ибо он швед) математик Lindelöf, недавно сюда приехавший, и мы. Было замечательно мило и уютно; разговаривали главным образом о России. В заключение он продемонстрировал на своем граммофоне арии Шаляпина (его любовь к граммофону — одна из любимых здешних сплетен). Кстати, летом он занимается, сидя на дереве (ему 61 год). Мы об этом слышали ещё в Москве, но не очень поверили; тут же об этом упомянула, как о вещи всем известной и само собой разумеющейся, сама Frau Professor. Твой Павел. |
21.VI.1923 г. Дорогой папочка, на этой открытке Münden, где мы были в воскресенье. Очень маленький старинный городок (все дома XVI–XVII столетия), расположенный среди гор на слиянии Fulda и Werra (от слияния получается Weser). На открытке вид с одной из этих гор. В следующее воскресенье собираемся съездить в Eisenach (в Тюрингии). Это самая длинная из предположенных нами экскурсий (3 часа езды скорым), поэтому спешим съездить туда до 1 июля, когда тарифы будут утроены. Целую. Павел. |
4 июля 1923 г. Дорогой папочка, недели через три мы поедем в Гамбург, где Hilbert будет читать доклады, которые он нас пригласил слушать. Оттуда пароходом прямо в Норвегию. Я совсем не нахожу, чтобы твои письма были «длинными-предлинными». А затем, большое заблуждение думать, что чтение писем отнимает столько же времени, сколько их писание: написать письмо в 4 стр. продолжается около часу, прочесть его — не более 5 минут. Как видишь, на чтение всех твоих писем, вместе взятых, у меня ушло меньше времени, чем на писание, например, этого одного письма. Твой Павел. |
8.VII.1923 г. Линочка, сижу в глубоком ущелье на берегу реки. Прошли втроём по горам босиком. Устали до чёртиков. Павел. |
Гёттинген, 11 июля 1923 г. Линочка, жара такая, что сил никаких нет. Поэтому ограничиваюсь открыткой, хотя собирался писать письмо. В пятницу (6-го) был большей вечер у Hilbert'a с присутствием как всех здешних математиков, так и иностранных гостей (были представлены 7 стран). Закончилось это в 3 часа, причём заключительным номером были танцы (под аккомпанемент граммофона) с участием Hilbert'a. Целую тебя. Павел. |
14 июля 1923 г. Дорогой папочка, наши ближайшие планы таковы: около 24-го едем в Гамбург, где Hilbert читает три доклада: 26-го, 27-го и 28-го. 28-го вечером собираемся выехать пароходом в Норвегию. Так как пароход отходит вечером, то мы, по всей вероятности, успеем; ручаться, впрочем, нельзя, так как неизвестны ни точное время отправления парохода, ни хотя бы приблизительно то время, когда читает Hilbert. Если успеть не удастся, то придётся ехать через неделю (это весьма мало вероятно). Если выедем 28-го, то 30-го прибудем в Христианию, где пробудем не больше одного дня, оттуда поедем в Dalen (день езды), где начнётся пешее хождение. Только около 7-го августа мы попадём в место с человеческим сообщением (понимая под этим словом пароходы и железные дороги), мы будем идти по шоссе всего около 600 вёрст. Дальнейшие наши планы вот каковы: от 15-го до 22-го сентября в Marburg состоится съезд математиков Германии (Deutsche Mathematische Vereinigung) 3. Нам посоветовали поехать туда и повторить наши гёттингенские доклады. Визы (для вторичного посещения Германии), вероятно, не трудно будет получить; в Москву мы в этом случае попадём около 28 сентября, так что ничего, не опоздаем. Крепко целую тебя. Твой Павел. |
В поезде, 22 июля 1923 г. Дорогая Линочка, хотя вышло так, что на пароход 28-го мы вполне можем успеть, однако тут оказалось неожиданное затруднение: во II класс все места проданы, I слишком дорог, а III слишком плох. Так как из Гёттингена сговориться с пароходной компанией довольно трудно, то я без дальнейших проволочек сел в поезд и поехал в Гамбург (5 часов езды). Сегодня вечером буду там, переночую, завтра утром куплю билеты (пока ещё не знаю точно на когда и куда) в Христианию и днём назад в Гёттинген. Поезд пошёл быстрее и стало трудно писать: кидает со стороны в сторону. Сейчас собираюсь отвечать на оставшиеся вопросы твоего последнего письма (оно у меня для этого с собой). Университет состоит из целой кучи зданий в разных частях города; мы бываем только в одном, так называемом Auditorium, довольно нового происхождения. Павел. |
Опять в поезде (на обратном пути), 23.VII.1923 г. Дорогая Линочка, писал я тебе вчера по пути в Гамбург, сейчас еду назад. Переночевал благополучно в Harburg'e (что не то же самое, что Hamburg), утром доехал до Гамбурга. Едем сейчас через люксембургскую степь. Ландшафт совершенно русского типа, притом из самых неинтересных: плоский. Мне на это даже смотреть не хочется, а здесь это редкость, специально приезжают смотреть. Ещё один пример того, насколько всё относительно. Спать мне хочется совершенно немыслимым образом (прошлую ночь я спал 5 часов, эту ещё меньше; кроме того, дорога). Кроме того, опять нет ресторан-вагона (тут он и не полагается), и я хочу есть; ближайшая большая остановка (Hannover — 22 мин.) только через 1½ часа. Этакая нелепость, что я ничего с собой не взял. Твой голодный и сонный брат. Павел. |
Атлантический океан у западного берега Норвегии, 30 июля 1923 г. Дорогая Линочка, хотел тебе написать сейчас же подробнее, но в тот день и на следующее утро не было ни минуты времени: мы на последний доклад Hilbert'a явились в рюкзаках и прямо оттуда отправились на пароход. Пароход отошёл позавчера; сперва надо было разместиться (у нас 2-местная каюта), потом негде было писать — в каюте было неудобно, а на палубе уже темно; кроме того, рассчитывал на вчерашний день — всё равно письмо пришло бы в одно и то же время, так как в открытом море почтовых ящиков нет. А вчера Немецкое море закатило нам такую погоду, что о писании нечего было и думать: волны хлестали через борт, и даже на верхнюю палубу по временам забрызгивало довольно основательно. Меня (я до 4-х часов находился наверху) несколько раз обдавало с ног до головы; благодаря моему Regenmantel'ю (плащ) я не промок, но весь просолился, даже ремешок от часов весь белый от соли. Качало настолько сильно, что один раз я вместе со своим креслом свалился набок; а один норвежец с креслом же перелетел через голову (имей в виду, впрочем, что всё это совершенно безопасно, так как с боков высокие перила). Все пассажирки и ¾ пассажиров были больны; даже Пуся под конец выбыл из строя. За обедом в I классе присутствовало только 6 человек, включая капитана и меня. Всё это прекратилось только около часу ночи, когда мы приблизились к норвежскому берегу. От 2-х до 7-ми утра стояли в Christianssand (южный берег Норвегии). Сегодня опять идём открытым морем, но погода тихая; приедем в Stavanger вечером. Почему я всё-таки решил ехать, я тебе уже писал, хотя и довольно бестолково. Прежде всего так-то глупо было не ехать, когда куплены были билеты туда и назад, стоившие (на обоих) 73 доллара. А затем, как я тебе уже писал, я страшно устал: ведь научная работа утомляет нервы, а я, в сущности, уже больше трёх лет (с начала магистерских экзаменов) не отдыхал. В прошлом году я хоть на даче сидел, а в этом было только гёттингенское пребывание, достаточно нервно-напряжённое. Назад в Германию во всяком случае нужно будет вернуться: с одной стороны — это ближайший (или, по крайней мере, в теперешних условиях скорейший) путь в Россию; с другой — мы там свои вещи оставили. Если потом сразу вернуться, то мы будем дома около 3-го сентября. Но было бы очень жаль пропускать Марбургский конгресс. В последний день пребывания в Гамбурге мы получили от Bieberbach'a (секретаря Deutsche Mathematische Vereinigung) открытку, в которой он сообщает нам, что наши доклады поставлены уже на повестку, причём он спрашивает, хватит ли нам обычных 20-ти минут, или мы желаем иметь больше времени. Кроме того, он пишет, чтэ закажет нам квартиру в Марбурге (по собственной инициативе). Помимо этого мы в Марбурге могли бы познакомиться ещё с целым рядом видных немецких математиков. Как видишь, это вопрос весьма серьёзный. В Москву мы напишем, и надеюсь, нам удастся убедить, что достаточно приехать к 1 октября. Целую тебя крепко. Твой Павел. |
Линочка, наконец-то собрался тебе ответить. Напишу о Норвегии. Что особенно поражает в Норвегии — это совершенно непостижимая какая-то честность. Если в Норвегии кто-нибудь сворачивает с шоссе с намерением вернуться обратно, то он обязательно оставляет все свои вещи непосредственно у дороги без всякого присмотра; в частности, вдоль некоторых шоссе валяется масса велосипедов (так как боковые дорожки, ведущие к деревням, слишком круты для них). Даже в довольно людных местах дома оставляют пустыми на несколько часов, не запирая их. Как на пароходах, так и в гостиницах нужно специально думать о том, что следует заплатить, так как никто об этом не напоминает; очень часто имеются специальные конторы, никак с остальным не сообщающиеся, куда надо идти платить: ты приходишь туда и сообщаешь, что съел то-то и то-то или, соответственно, сел на пароход там-то и собираешься слезть там-то, причём едешь таким-то классом. Тогда кассир берёт за это сколько следует, и дело с концом. Нигде на почте, хотя бы при получении посылок, не просят никаких удостоверений. Кстати о посылках. Мы оставили в Gutvangen дворнику наше грязное бельё с просьбой послать его в Христианию почтой. Тот взял с нас за это 1½ кроны (точная стоимость почтовых марок), и мы дали ещё 1 крону на чай. К нашему удивлению, бельё прибыло выстиранным. Ты можешь по телефону попросить тебе что-нибудь выслать из магазина по почте (в другой город, например), получишь посылку, в которой будет лежать счёт. Таких фактов можно было бы привести ещё сколько угодно. Что касается самой поездки, то была она на редкость удачной, если не считать Согнефиорда, где мы мокли 3 дня подряд без всякой передышки. Мы прошли очень много (500 вёрст), нигде долго не останавливались (самая длинная остановка была в Molde — 28 часов) и видели очень много — чуть ли не всё, что есть интересного в южной половине Норвегии. Очень часто бывали на снегу, один переход Daemeos Hytte Finse даже был весь по снегу (5½ часов ходьбы). Снег там совсем не такой, как у нас, а крупнозернистый; от него даже без солнца глаза начинают болеть, а при солнце даже нескольких минут нельзя выдержать. Полагается иметь специальные тёмные очки, которых у нас, конечно, не было; заменили их тем, что обвязались чёрными носками. После этого перехода (всё время при солнце) мы стали ровно вдвое чернее (так называемый Gletscherbrand), настолько, что на обратном пути некий почтенный немец нас самым серьёзным образом принял за африканцев. Сейчас, впрочем, уже значительно побелели. Приеду, расскажу всё более подробно. Открыток не покупали, так как дороги. Ну вот, пока всё. Сейчас идём купаться (в Норвегии купались приблизительно всюду — и в море, и в озерах, замёрзших в том числе, и в реках). Целую тебя. Поклон Сене, Лене, Мише. Павел. |
До первого октября
«Заграничная командировка продлена». Такое известие получили оба Павла из Москвы.
4.VIII.1923 г. Дорогой папочка, сегодня получил твою открытку от 25 июля и спешу ответить, так как завтра с утра опять отправляемся в глубь страны. Беспокоиться тебе совершенно нечего, так как путешествовать пешком по Норвегии много безопаснее, чем, например, по улицам Берлина. Целую тебя. Твой Павел. Пуся кланяется. |
(На вечном снегу), 7.VIII.1923 г. Дорогая Линочка! Наше путешествие принимает всё более фантастический характер. После того как мы 6 дней проходили по разным шоссе около 150 вёрст, нам это надоело, и мы решили отправиться как следует по горам. Наняли проводника (видишь, какие мы благоразумные!) и пустились в путь. Вчера шли 6½ часов, вперемежку по снегу, скалам и болотам. Так как башмаки у нас не горные, а самые обыкновенные, то, чтобы не погубить их окончательно, почти весь путь шли босиком. При этом как некая радость воспринималось как начало снежных кусков пути (наконец-то мягко!), так и их конец (наконец-то тепло!). В общем, однако, оба неудобства (твёрдость и холод) пути причиняли довольно мало неприятностей, так как кожа на ногах уже за прежние дни пришла в соответствующее состояние, — мы всё время ходим очень много босиком. Вчера мы только под конец обулись — тогда, когда путь пошёл окончательно по снегу, а дальше и по льду (ледник Rembedalsbrä). На самом краю этого ледника стоит и та Hytte, в которой мы сейчас находимся. Иностранцев здесь почти не бывает (даже англичан), зато норвежцев ежедневно по нескольку человек. Самое удивительное, что среди них около трети норвежек; это, главным образом, студентки, хотя попадаются и солидные дамы (вчера, например, была здесь некая Fru (дама) лет 40, а Пуся считает, что 50-ти, которая ходит даже без проводника, так как была здесь раз 5). Отсюда можешь заключить, что наш поход никакой опасности не представляет, так что папе нечего беспокоиться. Мы застряли тут на целый день из-за отсутствия проводника. Завтра отправляемся дальше, в Finse (станция на Бергенской жел.дор., которую мы проезжали в 1913 г.), где я опущу это письмо. Оттуда мы уже снова будем ходить только по шоссе (тем более, следовательно, нечего беспокоиться), так как горные путешествия слишком дороги, чтобы их предпринимать в большом количестве (плата проводнику). Впрочем, общая стоимость норвежского путешествия будет, по-видимому, вдвое меньше, чем я предполагал, так что на сентябрьское пребывание в Германии нам, по всей вероятности, даже хватит тех денег, которые у нас с собой, и присылать не нужно будет. Это удешевление произошло потому, что мы останавливаемся в самых плохоньких и маленьких гостиницах, что весьма целесообразно, так как чистота здесь всюду идеальная, а есть можно всюду, по известной тебе северной манере, сколько влезет. Уже совсем стемнело, кстати, и лист кончился (не удивляйся, что он такой мятый, путешествует в рюкзаке). Целую тебя. Павел. |
В письме к отцу от 16 августа 1923 г. Павел пишет:
Папочка, к тому обстоятельству, что нам необходимо поехать на конгресс в Марбург, присоединяется ещё одно, о котором я не хотел писать, пока дело не выяснится вполне; теперь, однако, пишу. Под редакцией профессора Courant'a в Берлине в издательстве Шпрингера издаётся коллекция математических книг; там появилось до сих пор 8 книг, принадлежащих видным немецким учёным, печатаются ещё многие другие, в том числе одна книга Hilbert'a, с частью иностранных авторов. Так вот, в разговоре, который происходил за 2 дня до отъезда из Гёттингена, Courant сказал мне, что было бы очень хорошо, если бы я для этой коллекции изложил свои исследования по топологии; но что он не может пока формально предложить мне это, так как ввиду экономических затруднений он до разговора с издателем не знает, на что он может рассчитывать в смысле печатания. Окончательно этот вопрос должен был решаться в сентябре; ясно, что без моего присутствия и моего выступления на конгрессе в Марбурге ничего не выйдет. Целую тебя. Твой Павел. В Москву мы напишем, и надеюсь, что нам удастся убедить, что достаточно приехать к 1 октября. |
С конгресса в Марбурге 24 сентября Павел пишет отцу:
Дорогой папочка, пишу тебе наскоро на почте, так как через 10 минут её закрывают. Здесь время распределено так, что никак нельзя собраться написать. От 9–1 первое заседание, потом обед (с математическими разговорами), потом еле можно успеть поменять деньги, купить что-нибудь и т.п. От 3–7 второе заседание. Потом ужин, опять-таки с математическими разговорами и с последующим сидением в Stadtkeller (пивная) до 12 часов ночи. Посылаю тебе экземпляр Tagesordnung (порядок дня). Наши доклады прошли очень хорошо, очень много дают математические разговоры, тем более что тут много крупных математиков. Кончаю, почту уже закрывают. Целую тебя. Твой Павел. |
Первая заграничная командировка Павла имела для него очень большое значение. Пребывание в самом центре математической науки, Гёттингене, живое общение с крупнейшими математиками всех стран, наконец, его удачное выступление на конгрессе в Марбурге — всё это не могло не отразиться на такой впечатлительной натуре, каким был Павел.
Мы можем проследить по литературе, что было сделано Павлом в конце 1923 и начале 1924 годов.
- К проблеме метризации. Содержание этой работы было доложено П. С. Урысоном 4 мая 1924 года Московскому математическому обществу и 8 июля 1924 года Гёттингенскому математическому обществу.
- Об универсальном метрическом пространстве. Работа была сделана П. С. Урысоном в июле–августе 1924 года.
- Одно свойство континуумов Кнастера. Работа возникла при личном контакте с Фреше в июле 1924 года.
- О достижимых точках замкнутых множеств. Результаты этой работы были установлены П. С. Урысоном осенью 1923 года и доложены Московскому математическому обществу на заседании 21 октября 1923 года.
- Пример степенного ряда, принимающего на окружности круга сходимости множество значений, не являющихся B-множеством. 1924 год.
- О некоторых линейных функциональных уравнениях. Работа была сделана осенью 1923 года и доложена Московскому математическому обществу 18 ноября 1923 года.
- Компактные топологические пространства. Работа П. С. Урысона и П. С. Александрова была сделана летом 1922 года и доложена Московскому математическому обществу 18 ноября 1923 года.
Новый, 1924 год начался очень хорошо для Павла Самуиловича. В конце февраля он получил разрешение на заграничную командировку в Германию, Францию и Польшу для научных занятий.
Опять заботы, волнения, множество вопросов. Правда, имеется прошлогодний опыт. Первое семейное собрание происходит в комнате отца у новой кирпичной печки. Павел собирается её топить собственным «научным» способом. Он накладывает полную печку дров, и ему удается быстро её разжечь. Красные огоньки пламени отражаются в его сияющих глазах.
— Надо повторить лекции. Где их прочесть?
Радостные голоса, не сговариваясь, называют один и тот же город — Воронеж. Там друзья Урысонов. Они помогут в организации лекций. Московские математики найдут у них радушный приём.
В марте 1924 года московские математики Александров и Урысон поехали в Воронеж. На улицах Воронежа появились длинные афиши о незнакомой науке, с незнакомыми фамилиями лекторов из самой столицы.
После первых двух лекций в местной газете появилась небольшая статья. Она заканчивалась словами: «Лекции привлекли большую аудиторию».
Московские учёные были очень довольны поездкой в Воронеж. Тихий провинциальный город. Добрые друзья. Большая аудитория. И даже юмористическое стихотворение Нины Непомнящей о приезде учёных математиков. Всё сделало пребывание в Воронеже приятным, уютным; это был отдых после усиленной работы.
В мае московские учёные выехали во вторую заграничную командировку.
Письма из-за границы
В открытке от 10 июня 1924 года Павел, между прочим, пишет:
Завтра с утра едем в Гёттинген. За эти дни были во всех музеях, ботаническом саду и пр. Только сегодня мы собрались писать письма, среди которых были некоторые совершенно безотлагательные. А сейчас уже поздно и завтра нужно вставать в 7. Целую. Павел. |
Гёттинген, 14 июня 1924 г. Дорогой папочка, вчера получил твою открытку от 6-го и заказное письмо, а также корректуры. Таким образом, теперь письма доходят в 7 дней вместо 9–10 в прошлом году. Последний раз писал тебе ещё из Берлина и с тех пор никак не мог собраться, тем более что хотел написать наконец письмо, а не открытку. Сюда мы приехали в среду 11-го вечером и в тот же день нашли комнату с пансионом за 3 м. 50 п. на человека в день. Кормят нас не особенно сытно; зато мы узнали, цена до смешного дешёвая, нормальная от 6 м. и выше. Со вчерашнего дня начали заниматься. Как и в прошлом году, мы попали сюда в самую середину весенних отпусков; так как теперь положение немецкой профессуры значительно лучше, чем в прошлом году, то все разъехались, и ни живой души в Гёттингене нет. Естественно, что мы ещё никого не видели, если не считать одного молодого физика, с которым мы познакомились прошлым летом и которого мы теперь встретили на улице. Впрочем, в понедельник занятия в университете возобновляются; во вторник заседание Математического общества и т.д. Германия с прошлого года изменилась мало, и далеко не к лучшему. Улицы в Берлине и в Гёттингене поражают своей грязью, по-видимому, они не убираются вовсе или, по крайней мере, очень редко, за недостатком денег. Целую тебя. Твой Павел. |
24.VI.1924 г. Дорогая Линочка! Так как мы приехали в воскресенье (1-й день троицы) утром, то нам из-за французского посольства, которое было два дня закрыто, пришлось просидеть в Берлине три дня. Прямо удивительно, до какой степени мы оба чувствуем себя дома в Гёттингене. Когда мы вечером сюда приехали из Берлина и, оставив вещи на вокзале, отправились в город, у меня было вполне ощущение, что я приехал домой, и было только несколько странно, что надо ещё зачем-то искать комнату. Устроились мы очень быстро и, по здешним ценам, дёшево. Впрочем, дешевизна эта более чем относительная: за 2 недели у нас ушло 48 долларов, не считая мою поездку в Берлин за французской визой. Утешаюсь тем, что во Франции будет много дешевле. Заняты мы по горло: тут и лекции (10–14 часов в неделю), и математические Spaziergänge (прогулки), и Математическое общество, и Lesezimmer (читальня), и прочие математические занятия, и таковые же визиты, и пр. и пр.; вдобавок именно сейчас на нас свалились корректуры сразу шести работ, так что прямо передохнуть некогда. Ну что ж! Мы здесь в этом году так недолго, что нужно как следует использовать пребывание. Вещей, кроме как в Риге, пока не покупал никаких: оставлю на Париж, где вдвое дешевле. Сейчас кончаю, так как через три часа Математическое общество, а сегодня во что бы то ни стало нужно дочитать корректуры. Пиши мне подробно о всех московских делах. Кланяйся Сене (собирается он осенью в Германию?), Лене, Мише и коту. (В доме жил кот. Простой серый кот. У него даже имени не было. Но Павлик его любил, ласкал, баловал. Кот платил полной взаимностью. Стоило Павлику вернуться домой, как кот протискивался боком к нему в комнату. Вот почему Павлик помнил всегда, и далеко от дома, о сером коте.) |
Ну, пока всего хорошего. Крепко целую тебя. Павел. |
Краткая открытка Павла из Гёттингена сообщает отцу: «Планы изменились!».
Профессор Brouwer настойчиво зовёт молодых математиков к себе в Голландию, Ларен. Всё дело в голландской визе. В дальнейшем намечен Париж. Деньги, июньское жалованье, следует, во всяком случае, послать в Париж.
Итак, основной вопрос решён. Учёные едут в Париж.
В эти дни пришло письмо из Варшавы от польского математика профессора Серпинского, редактора журнала.
Это письмо касается работ Павла Урысона. Его большой мемуар о канторовых многообразиях, равно как и работы других математиков, начинают печатать в июле.
Серпинский очень жалел, что Павлу Самуиловичу и Павлу Сергеевичу не удалось по пути из Москвы заехать в Варшаву. Он надеется, что на обратном пути Павел Самуилович сам будет корректировать свой большой мемуар.
10 июля 1924 года Павел Самуилович описывает в открытке своей сестре поездку пароходом по Рейну:
Едем по Рейну, необыкновенно хорошо. Совершенно своеобразное сочетание: горы, бесчисленные города и развалины средневековых замков на неприступных скалах. |
В открытке от 9 июля 1924 года Павел пишет отцу:
Хотя голландской визы ещё нет, но Brouwer написал, что в случае каких-либо недоразумений или проволочек с голландской визой (в Кёльнском консульстве) он сам приедет в Кёльн, чтобы нас abholen 4. Наши доклады в Гёттингенском математическом обществе прошли с большим успехом. |
В открытке от 14 июля Павла Самуиловича отцу:
Сегодня наконец получили голландскую визу. В Бонне мы были до того заняты, что о писании писем нечего было и думать. Достаточно сказать, что у Hausdorff'a мы первый день пробыли 4½ часа, второй — 6 часов и третий — 7 часов подряд! Приём был совершенно необыкновенный, такой, о каком и мечтать нельзя было. |
10 июля 1924 года отец пишет в Париж:
«От всей души поздравляю вас обоих с приездом в Париж (мечте всех молодых людей всего мира) и желаю искренне, чтобы ваше пребывание в этом чудном городе принесло вам много пользы в научном отношении».
Павел пишет сестре из Парижа:
26 июля 1924 г. Завтра мы едем в Бретань заниматься, и там будет больше свободного времени. С момента отъезда из Гёттингена и до сих пор буквально не было ни минуты отдыха. Мы оба до того устали, что решили теперь не оставаться в Париже, но зато побыть тут на обратном пути, тогда же будут и покупки. |
31 июля 1924 г. Дорогая Линочка, настало наконец время, когда у меня есть возможность написать письмо. Последние три недели буквально передохнуть было некогда, но об этом после. Прежде всего хочу объяснить, почему это письмо пишется всё-таки карандашом. Причина — местоположение. Сижу я в полуголом виде на скалах, на полпути между вершиной и основанием. Скалы имеют совершенно недоступный вид и сверху и снизу; однако мы уже отлично научились по ним лазить во всех направлениях, только при этом ноги у обоих оказались ободранными тоже во всех направлениях (всё это проделывается, понятно, босиком: в башмаках это было б невозможно — скользко). У ног моих, как принято говорить, что, впрочем, не совсем верно, так как я сижу к нему спиной, расстилается Атлантический океан. Сейчас полный отлив; а через 6 часов то место, на котором я сижу, будет покрыто шумящей пеной. Солнце сильно печёт: мы находимся сравнительно очень южно — около 47° северной широты (для пояснения: Одесса — 46°, Киев — 50°, Петербург — 60°). Я, впрочем, ещё не написал, что это южный берег Бретани. Весь этот берег сейчас, к сожалению, начинает очень входить в моду и превращается в сплошной курорт, a la остров Rügen, например. Но в Batz'e, к счастью, есть только некий plage, который можно назвать так разве что в насмешку, поэтому здесь тихо, пусто и никого нет: мы чуть ли не единственные иностранцы. Платим за полный пансион по 25 франков (2 р. 50 коп.) в день на человека и едим до отвала. С утра (до 12-ти) ходим к морю, купаемся, пишем письма (сегодня, например). В 12 — завтрак (по нашему — обед), состоящий из hors d'oeuvres, или, по-нашему, «разнообразные гну́сна» — раки, омары, креветки, устрицы, всякие ракушки и улитки, из которых я половину не решаюсь есть, затем рыба, мясо, зелень (артишоки и проч.), сыр, бисквит и фрукты. От 1 до 7 занимаемся сплошь; потом «обед» (т.е. ужин), отличающийся по составу тем, что вместо «разнообразных гнусей» подаётся суп. Потом либо гуляем, либо пишем письма — за эти 3 недели у нас накопился целый ворох писем, на которые мы всё ещё не ответили, и корректуры, которые мы всё ещё не исправили. Сейчас я собираюсь лезть в воду, а то стало уж очень жарко. Продолжение. После того как я вылез из воды, оказалось, что уже die höchste Zeit (пора) идти завтракать. Потом занимался, так что сейчас уже вечер. Попытаюсь описать хотя бы кое-что из последней части нашего путешествия (после Гёттингена). Впрочем, сперва о самом Гёттингене. Ты спрашиваешь, по чему именно я сужу, что наши доклады были удачны. Не знаю, я ни о каких определённых признаках не думал; но ведь это всегда чувствуется, или, по крайней мере, у тех, кто этого не чувствует, доклады никогда не бывают удачными. О поездке по Рейну я тебе хотя и немного, но всё же писал, поэтому к ней не возвращаюсь; впрочем, вся она продолжается только 7 часов. Потом был Бонн и Hausdorff (1-е — город, а 2-е — математик, который там живёт), Сейчас всё это стало уже давнопрошедшим, и тамошние достаточно необыкновенные переживания в значительной мере заглушены более поздним и ещё более необыкновенным пребыванием у Брауэра. Но тогда всё это казалось совершенно сказочным. Brouwer, с которым мы прежде никогда не видались (только немного переписывались), встретил нас совершенно так, как если б мы были его старыми знакомыми; и всё продолжение носило именно такой характер. Каждый день мы проводили у него от 4–5 дня до 12 часов ночи, а один раз даже и позже. Основной частью порядка дня были, конечно, математические разговоры, которые в значительной своей части (вечером) велись неизменно за Fläschen 5 рейнского вина (было бы, впрочем, точнее сказать zwei Fläschen 6, так как каждый раз мы выпивали именно 2 бутылки). Но говорили также о всевозможных нематематических вещах, особенно за ужином, и вообще в тех случаях, когда сидели вместе с его семьей. Семья его состоит из жены, к которой он относится с трогательной внимательностью, дочери и её жениха (самому Hausdorff'y около 56 лет). Кроме того, на второй день приехала из Вены сестра жены с маленькой дочкой. Все они очень музыкальны. В последнее наше посещение (именно тогда мы сидели до часу ночи) Hausdorff играл много (на рояле), а его дочь пела (серьёзные вещи), оба по нашей просьбе. Все они хорошо знают русскую литературу, особенно сам Hausdorff, который читал не только обычных для западноевропейцев Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова, Горького, но даже, например, «Обломова». Но больше всего любит Достоевского. Вообще человек он очень интересный во всех отношениях. В Гёттингене нам рассказывали, что в своё время он написал (под псевдонимом) пьесу, которая ставилась и пользовалась большим успехом. Живут они в малюсеньком особняке, чуть ли не всего два окна в ширину, но зато два этажа и комнаты с окнами на улицу, а другие в сад (примерно 5 комнат). До 4–5 часов в Бонне мы занимались тем, что ездили в Кёльн. Хотя это и другой город (28 километров расстояния — столько же, сколько Листвяны от Москвы), но помимо поезда и парохода есть ещё трамвай, который ходит каждые полчаса и находится в пути 45 минут. Ездили мы туда главным образом из-за голландских виз, но также и для осмотра (Кёльнский собор!). Визы мы получили вообще, а в особенности получили сравнительно очень скоро исключительно благодаря Брауэру, который дал формальное поручительство за нас и цель нашей поездки и, кроме того, телеграфировал всюду, куда только возможно, сперва просьбы ускорить дело, потом запросы, почему ещё ничего нет, и т.д. Таким способом мы попали в Голландию. Но сейчас уже 10 часов (мы позже не ложимся), так что продолжение будет завтра. Продолжение. Утро 1 августа, опять на скалах. Сегодня океан совершенно синего цвета и волн нет никаких. Солнце печёт немыслимо. Голландия — прекурьёзная страна. Во многих отношениях она нам напомнила Норвегию — в отношении её населения, конечно, так как природа диаметрально противоположного характера. Страна абсолютно плоская и, как всем известно, находится ниже уровня моря. Я это тоже очень хорошо знал, но до сих пор никак себе не представлял, как это выглядит. А выглядит это так: вся страна покрыта мелкими каналами «третьего порядка», которые находятся ниже уровня почвы и заменяют собой заборы, ограды, межи меж полями и т.п. Из этих каналов накапливающаяся в них вода (от дождей, например, выкачивается при помощи паровых машин в каналы «второго порядка». Эти уже выше уровня почвы, но все ещё ниже уровня моря и выглядят, как на рисунке, который представляет разрез. (Этот разрез нарисован в письме Павлом.) Только в самом деле насыпи более пологие. Эти каналы служат средством сообщения (грузового) и соединяются все между собой, так что грузы можно доставить водой в любую точку страны. Наконец, из каналов «второго порядка:» вода выкачивается паровыми машинами либо прямо в море, либо в лежащие на одном уровне с ним каналы «первого порядка» (например, Nordseecanal), по которым океанские пароходы доходят прямо до Амстердама, лежащего на берегу Zuidersee. Каналы есть и во всех городах, особенно же много их в Амстердаме, который поэтому, не без основания, называют «северной Венецией». Только внутри города, даже в чистоплотной Голландии, каналы довольно сильно протухают; представляю себе, какая вонь должна быть, при итальянской грязи, в настоящей Венеции! Продолжение я напишу в другом письме, так как иначе это и сегодня не уйдёт, и папа будет беспокоиться. Продолжение скоро напишу. Целую тебя. Павел. |
Открытка сестре:
Дорогая Линочка, в ожидании, пока я наконец напишу тебе продолжение письма, пишу открытку из самой западной точки Франции. Отсюда уже до самой Америки никакой земли нет. Все скалы, которые ты здесь видишь, мы облазили кругом во всех направлениях. Поклон всем нашим. Павел. |
2.VIII.1924 г. Дорогой папочка! Следует чертёж, сделанный Павлом. Поразительно ясно, точно, без единой помарки дана карта. Все мысы Le Batz (дважды подчёркнутый вблизи Нанта), а вдали, почти по прямой линии, чуть повыше заполненный кружок — Париж.
|
|
Письмо отца Павлу 8 августа 1924 года.
«Писал я тебе 5 с.м. открытку № 26, а от тебя до сих пор ни одной строчки. Я страшно страдаю от полнейшего отсутствия всяких известий от тебя, потому что моё воображение рисует мне ночью такие страшные картины. Действительно, разве мало неосторожных иностранцев погибло в этом громадном Вавилоне, в Париже?
От издательства Шпрингер в Берлине получил два громадных пакета с оттисками твоих работ. Следует полагать, что ты заказал. На что тебе такая масса экземпляров? Оттиски очень красивы, на хорошей бумаге. Если я из дальнейшей корреспонденции увижу, что вам следует выслать деньги, то вышлю через Государственный банк, не дожидаясь ответа на настоящее письмо. Обнимаю и целую тебя крепко, крепко. Твой тебя всем сердцем любящий отец».
Отец Павла пишет сыну открытку 10 августа и напоминает: 15 августа день смерти матери.
В письме отца Павлу от 11 августа отец сообщает: «Лена и Лина уехали в «Узкое», а Сеня не мог уехать из-за дел в больнице. Через несколько дней поедет. Но Лина настаивала и умоляла, чтоб вместо Сени я поехал. Но я не согласился, так как интересы обоих Павлов требуют моего беспрерывного присутствия в городе».
Письмо отца от 15 августа 1924 года Павлу.
«Дорогой, милый Павлик! Я получил для тебя извещение следующего содержания:
«Профессору П. С. Урысону.
Извещаем Вас о том, что, согласно постановлению ГУСа, Вы утверждены профессором по кафедре теории функций. Президиум просит Вас участвовать в совещании по вопросу о планах работ в 1924/25 академическом году, которое состоится 11 августа в 7 часов вечера в помещении 2-го МГУ».
Совершенно игнорировать это приглашение я не мог и предполагал поехать в университет, объяснить твоё отсутствие, но чувствовал себя не очень хорошо и ограничился телефоном. Так как ни тебя, ни нашей доброй Линочки, которая нас всегда охраняет, здесь нет, то мне, конечно, не особенно весело на душе, и это, может быть, и было причиной того, что я не мог лично поехать в университет. Теперь поздней ночью кругом тихо и спокойно, и я сижу и разговариваю с тобой (хотя только письменно), мне уже лучше».
Не может быть...
Лина была в «Узком» одна в комнате, когда её позвали к телефону. Какой-то странно отчуждённый голос произнёс в телефонную трубку:
— Лина Самойловна!
— Кто говорит?
— Михаил Сергеевич, брат Павла Сергеевича Александрова. Тяжёлое известие из Батца. — Он прочёл телеграмму на французском языке: — «Prevenir doucement Lina, sans dira an père: Paul enoyè en se baignant» 7.
Сестра ничего не поняла, она долго молчала, потом тихо сказала:
— Не может быть...
— Брат телеграфирует.
— До свидания, — шепотом сказала Лина и осторожно положила трубку.
Она вернулась в комнату, всё ещё не понимая, что случилось, и стала перевешивать полотенца на кроватях.
Открылась дверь, вошла Лена. Лина, не глядя на сестру, тихо сказала:
— Павлика уже нет...
Лена крикнула:
— То есть как?
Лина так же тихо, не глядя на сестру, сказала безразличным голосом:
— Он утонул, Михаил Сергеевич позвонил.
Тогда Лена так вскрикнула, что Лине стало неприятно: как можно кричать, когда Павлика больше нет?
Лена опустилась на стул и зарыдала.
Открылась дверь. Вошёл Семён Маркович, муж Лины, остановился у порога и сразу понял — случилось что-то ужасное...
Как сказать отцу?..
Последнее письмо отец написал Павлику в роковой день, 17 августа.
Конечно, это письмо Павел не получил.
Не мог получить Павел письмо и от сестры от 13 августа, на десяти страницах, которое бы его несказанно обрадовало. Впервые в жизни Лина подписалась: «Твоя сестра и твоя дура-нянька». Но это бы его рассмешило.
Утро в «Узком» было ясное, солнечное. А что там, в Бретани? В Батце, у мыса с точкой Nantes, подчёркнутое Павлом двумя чертами. Почему там произошло такое несчастье? Ведь Павел так хорошо плавал...
Машину долго не давали. Хотелось скорей домой, в Старопименовский. Казалось, что там, именно там разъяснится, что это недоразумение... Может быть, эта телеграмма — просто ошибка... В город попали поздно. Дочери волновались. К часу дня отец обычно возвращался домой. Он может их встретить и сразу всё поймёт.
Но вот проехали Тверскую. Сейчас машина свернёт в Старопименовский...
— Кажется, проскочим, он уже, наверное, дома. — И Лена сухой и тёплой рукой сжимает руку сестры.
— Папа, вот он, идёт по тротуару, сейчас проедем мимо... — шепчет Лина.
Отец что-то почувствовал, он обернулся... Мгновение — и радость потухла в его глазах... Горе!..
Лена вошла к себе в квартиру № 3. Лина поднялась выше, в квартиру № 5. Дома была Груша, старинный друг семьи, работавшая много лет у знакомых. Она тревожно всматривалась в лица Лины и Семёна Марковича, спросила:
— Случилось что?
— Случилось, Грушенька, — ответила Лина. — Потом...
И началось. Отец поднимался наверх, ничего не спрашивал и молча уходил вниз. Снова появлялся наверху, и взгляд его снова и снова мучительно-страдальческий был обращён к детям:
— Ну скажите, где Павлик, что с ним?
А Лина опускала глаза, она не в силах была нанести этот удар отцу.
Лена успела вызвать Лину к телефону:
— Я сказала, что Павлик заболел.
— Не верит? — спросила Лина.
— Конечно, нет. Но сразу нельзя.
Только на другой день, когда так же ослепительно сияло солнце и обещало такой же ясный день, отец снова поднялся наверх. Перед Линой был глубокий старик, слабый и немощный. Он присел и, задыхаясь, сказал:
— Деточки, скажите наконец, что с Павликом? — и дальше глухой, какой-то нечеловеческий стон. Отец протянул руки вперёд, как бы защищаясь. — Павлик... утонул? — Он с трудом прошептал последнее слово, закашлялся, в глазах за синеватыми очками блеснули слёзы.
Горе захлестнуло всех. Сидели молча. Дочери смотрели на отца. Он с трудом поднялся. Сёстры подбежали к нему, и втроем, всё так же молча, пошли вниз, по чёрной лестнице. Никогда ступени не казались такими трудными. Никогда чугунные перила без деревянных поручней не были такими шершавыми и холодными, как в этот жаркий августовский день. Как часто Павлик провожал отца наверх по этой лестнице! Как часто рядом с отцом звенел его молодой голос, смех...
Толстая рукопись Павла лежала в столовой на столе. Дверь в его комнату плотно прикрыта. Серый кот жалобно мяукал и царапал лапой дверь.
Отец делал всё, как обычно: ел, отдыхал, выходил на улицу. Даже написал письмо мэру, телеграфировал Павлу Сергеевичу о посылке денег для приобретения участка земли на кладбище... Но прежнего Самуила Иосифовича больше не было.
В университете
Наступило 1 сентября. Во всех высших учебных заведениях Москвы начались занятия. Директор Института математики и механики в Московском университете Дмитрий Федорович Егоров вошёл в аудиторию:
— Грустное сообщение... Погиб наш Павел Самуилович...
— Как?..
Директор взволнованно, скупо рассказал о случившемся. Он умолк. Напряжённо молчала и аудитория.
НАРКОМПРОС
Берлин, 2 сентября 1924 года
№ 327/325 |
|
| УДОСТОВЕРЕНИЕ |
Настоящим удостоверяется, что профессор П. С. АЛЕКСАНДРОВ возвращается к месту своей постоянной работы в Москву и везёт при себе рукописи по математике, отдельные оттиски статей, фотографии и научную переписку, оставшиеся после погибшего профессора П. С. УРЫСОНА. Означенные материалы представляют собой очень большую научную ценность и абсолютно не восстановимы. Поэтому необходимо при осмотре на границе проявить особую бережность к этим материалам, и Комиссия Наркомпроса просит таможенные власти по возможности беспрепятственно и быстро пропустить их через границу, ни в коем случае не подвергая риску повреждения или утраты. |
| Печать | Подписи |
Павел Сергеевич Александров возвращался не один. С ним ехали в Москву товарищи-математики: С. С. Ковнер, Б. И. Ковнер, В. В. Степанов, Ю. А. Рожанская.
Павел Сергеевич привез фотографии, сделанные у Брауэра, в Ларене. Они были в альбомах. Павлик всюду был живым, словно сам вернулся в Старопименовский.
В середине ноября, в холодный и ветреный день, отцу Павла было особенно грустно. Он был один и знал, что до вечера никто из близких не придёт. Позвонил почтальон. Белый конверт, письмо из Франции, Ле-Батц. Кто ему пишет? Небольшое письмо на изящной белой карточке с золотым обрезом.
«Батц, 3 ноября 1924 года.
Мосье!
1 ноября во Франции день поминовения. Я подумала, что вам будет приятно узнать, что могила Вашего сына не осталась покинутой. Я положила, также как и многие, букет белых хризантем. Будьте уверены, что и впредь не будет недостатка в симпатиях к Вашему сыну.
Примите, мосье, вместе с искренним сочувствием мои достойные пожелания.
В. Корню
Мадемуазель Корню. Табак в Батце. Луара — Внешняя Франция».
Это было началом знакомства с мадемуазель Валентиной Корню. Отец в ответном письме сердечно благодарил за заботу о могиле сына и сообщил, что собирается к годовщине смерти сына приехать в Ле-Батц.
Профессор Брауэр первым написал отцу Павла Самуиловича письмо, полное сочувствия и скорби по поводу утраты сына. Профессор писал:
«Пусть Вам, много испытавшему отцу, послужит утешением сознание красоты его короткой земной жизни и уверенность в его дальнейшей духовной жизни. Дорогой, тяжело пострадавший друг! Я так горячо полюбил Вашего высоко одарённого и любезного сына, что легко могу понять, как тяжела потеря. Для математиков его смерть непоправимая утрата. Он был бы выдающимся математиком. Я переживаю эту потерю вместе с Вами.
Если Вы будущим летом сможете посетить могилу Вашего сына, я всей душой готов помочь Вам, можете смело на меня рассчитывать. Остаюсь с горячей симпатией, преданный Вам
Л. Э. Я. Брауэр».
Отозвался на смерть Павла Урысона величайший математик Давид Гильберт. Он написал Самуилу Иосифовичу:
«Гёттинген, 25 августа 1924 года.
Глубокоуважаемый господин Урысон! Известие о несчастье с Вашим сыном мою жену и меня глубоко потрясло. Каким страшным должен был быть этот удар для Вас. Мы Вашего сына очень полюбили. Он был необычайно даровит, и я питал большие надежды на него. Я надеялся на длительную дружбу с Вашим сыном. Через Александрова мы узнали все подробности несчастного случая. Это была случайность. Мы сохраним о Вашем сыне самые лучшие воспоминания. С самыми сердечными чувствами от моей жены и меня».
14 февраля 1925 года Брауэр пишет Самуилу Иосифовичу:
«Благодарю Вас за любезное и доверчивое письмо. Я думаю, что я могу понять Ваше чувство, одно из самых глубоких и мистических. Такое впечатление у меня осталось от знакомства с Вашим сыном... Очевидно, ещё при его жизни его душа витала над землей, это ощущение все усиливалось под влиянием моего восхищения его большим математическим дарованием. Особенно могучего и удивительного в той части математики, которую я растил, — топологии. Если Вы хотите поехать на могилу к сыну, я помогу Вам. Рассчитывайте на меня».
Прошёл год
С обычной энергией отец начинает хлопоты о поездке во Францию через Голландию. Так недавно он хлопотал о визах для сына, а теперь... Лина тоже поедет к годовщине смерти брата, но несколько позже: она связана своими занятиями. Павел Сергеевич уже находился в Ле-Батце.
Самуил Иосифович поехал один. Семья с грустью провожала отца. Но он держался бодро и сказал, что его долг — поставить Павлу достойный памятник.
Белый мраморный памятник с барельефом был доставлен на место.
Каждый день, ровно в 5 часов, в час гибели Павла, отец выходил из пансиона и направлялся на берег океана, опираясь на тонкую чёрную палку с круглой ручкой. Он взбирался на скалы, по которым лазил в своё время его сын. Обувь Самуила Иосифовича совсем не была приспособлена для таких походов, тонкая палка была недостаточно надёжной. Дочь не могла сопровождать отца, а Самуила Иосифовича переубедить было невозможно.
В сентябре все трое — отец с дочерью и Павел Сергеевич Александров — оставляли Ле-Батц. Посёлок был тихим. Скромная, немногочисленная в то время курортная публика разъехалась. Море было спокойное. Ничто не напоминало о том ужасном дне 17 августа прошлого года. Но люди помнили. Несколько женщин, стесняясь, приблизились к отцу Павла и трогательно целовали и обнимали его. Он понимал, что бретонки, видавшие много бед от океанских бурь, выражают ему глубокое сочувствие.
Павел Сергеевич предполагал, что вернётся сюда, встретится тут с Брауэром, может быть, с другими математиками. Могла надеяться на это и сестра. Но отец Павла знал, что он больше не вернётся ни к могиле сына, ни к этим скалам, ни к океану...
В маленькой записной книжке отца на последней странице есть запись:
«Я знаю, что значит труп. Но я не знал, что означает труп сына».
АКАДЕМИК П. С. АЛЕКСАНДРОВ
О моём друге
Передо мною сейчас лежат два железнодорожных билета третьего класса от Парижа до Пулигена — маленького поселения на берегу Атлантического океана, в южной Бретани, между Сен-Назэром и Круазиком. Эти билеты датированы 27 июля 1924 года — день, когда Павел Самуилович Урысон и я поехали из Парижа на берег моря. Покупая эти билеты, Павел Самуилович не думал, что обратного пути ему уж не придётся сделать.
Выехав из Парижа утром, мы приехали в Пулиген во второй половине дня и, осмотревшись на месте, решили, что местечко это для нас всё-таки слишком курортное, а нам обоим хотелось по возможности малолюдного морского берега; мы сели в следующий поезд и, проехав ещё несколько километров, вышли в уже совсем маленькой деревушке Ле Ба, которая нам сразу же понравилась; в ней мы и остановились, поселившись в очень скромном пансионе (других там в те времена и не было), в нескольких десятках метров от моря.
И вот мы прожили около трёх недель на самом берегу океана. Было много солнца, был и ветер, но погода была хорошая, дождей не было или почти не было, и мы целые дни проводили на берегу моря, как проводили их два года тому назад на берегу реки Клязьмы, недалеко от Болшева (о чём ещё будет речь впереди).
Мы ежедневно видели приливы, когда вода наступала на берег и надо было от неё уносить всё имущество: свою одежду и свои бумаги; мы видели отливы, когда обнажалось морское дно с пахнущими йодом водорослями — то в виде больших тёмных скользких лент, то в виде мхов и даже мелких кустарников (редких цветов), прочно сидящих в расселинах скал, с подвижными крабами и неподвижными ярко-красными морскими звёздами среди них. Всё это дышало и шипело от медленно стекавших повсюду струек воды, в них обращались всплески и брызги волн, дальше и выше взметнувшиеся на скалистый берег. Среди этого особого мира мы и жили и работали, уходя с моря на совсем короткое время, чтобы пообедать. За это время Павел Самуилович сделал и написал в черновике свою работу об универсальных метрических пространствах и почти закончил чистовую рукопись своей работы о мощности связных пространств (чистовая рукопись писалась уже в вечерние часы, по возвращении с моря домой).
Числа восьмого августа мы поехали на несколько дней на крайний запад Бретани и всей Франции, на «край света» — в Финистерр. Тут всё было другое, чем в уже ставшем для нас привычном Ба: там берега были хоть и суровы, но совсем не высоки — всего несколько метров; здесь — скалистая громада берега в несколько десятков метров высоты, море страшно кипело внизу и надо было искать пути, по которым к нему можно было спуститься, и бухты, в которых можно было купаться; иногда их долго приходилось искать и, наконец найдя их, долго приходилось примериваться, прежде чем удавалось как-нибудь войти: слезть или сползти в воду. Сами волны были гораздо больше, выше. С рёвом и грохотом разбивались они о гранит берегов. Безоблачного неба мы не видели ни разу, и солнце хотя и проглядывало часто, но сквозь бегущие облака, а иногда и тучи. Всё это было огромно, мрачно и величественно. Мы жили в небольшой гостинице, полупустой, несмотря на то что был разгар сезона и крайняя оконечность Бретани — знаменитая Pointe du Raz, где мы находились, считалась туристической достопримечательностью. Но я запомнил пустынные окрестности гостиницы, почти без растительности; всюду камень, ветер и постоянный гул моря, прерывавшийся только тяжёлыми, похожими на пушечные выстрелы ударами волн в пещеры и провалы между скал. Была какая-то сосредоточенность во всём и в настроении Павла Самуиловича; я помню, он вечером напевал отдельные фразы из третьей скрипичной сонаты Брамса, находил её подходящей к обстановке, в которой мы находились. С тех пор эта соната связана у меня с впечатлениями этой поездки.
Поездка была непродолжительна, и 11 августа мы вернулись в Ба. Наша комната в пансионе оказалась занятой, и хозяин пансиона предложил нам поселиться в отдельном, совсем крохотном домике, расположенном на отлёте, на самом берегу моря. Домик состоял из одной-единственной комнаты с какой-то не то кухонькой, не то прихожей; в ней не было даже электрического освещения, нам дали свечи и керосиновую лампу. Мы с удовольствием приняли предложение поселиться в этой избушке — уж очень привлекала нас возможность прямо с утра, едва проснувшись, оказаться сразу же в море. Почти всю комнату занимал огромный квадратный дубовый стол, за которым мы работали, когда были дома. А дома приходилось бывать значительно больше, чем раньше: погода испортилась; дня через два после нашего возвращения стал дуть, постепенно нарастая, ветер с моря (т.е. с юго-запада). Ветер принёс с собой дождь, но нас это не смущало; по нескольку раз в день мы под дождём и ветром сбегали к морю и с особенным удовлетворением и особенно долго плавали в его волнах; они были большие и разбивались непосредственно под самым нашим домиком. Так продолжалось несколько дней. 14 августа Павел Самуилович закончил свою работу о мощности связных множеств, одну из замечательных своих работ.
Между тем и ветер и волнение на море всё нарастали; плавать в море становилось для нас всё интереснее; волны делались не только выше, но и длиннее, и это доставляло нам особенное удовольствие. Вместе с тем и влезать в море и вылезать из него делалось всё труднее, несмотря на технику купания со скалистого берега, которою мы тогда овладели.
Наступило воскресенье 17 августа. В этот день дождя не было; часто проглядывало солнце; но ветер ещё усилился, и море было совсем бурное. И до, и после обеда мы много занимались. Павел Самуилович обдумывал свою новую работу «К проблеме метризации» — работу, содержащую знаменитую, входящую теперь во все учебники и монографии по топологии «лемму Урысона» и не менее знаменитую метризационную теорему для пространств со счётной базой. Но он написал только первую страницу этой работы: казалось, надолго появилось солнце и мы опять пошли купаться. Это было около пяти часов пополудни. Через час Павла Самуиловича уже не было в живых.
Когда мы собрались входить в море, мы немного заколебались — уж очень большими показались нам волны. Но всё-таки, найдя подходящий момент, мы поплыли и сразу же оказались вдали от берега. Мы оба поняли, что надо возвращаться. Пришла обратная волна, и она нас понесла к берегу, но, понеся, как-то разъединила: она ударила Павла Самуиловича головой о скалу, бывшую недалеко от берега, а меня пронесла дальше и выбросила на сравнительно мелкие камни. На берегу было множество народа: было воскресенье; как уже упоминалось, светило солнце, а тут ещё и наше купание, заинтересовавшее публику, — не мудрено, что собрался народ. Но никто из присутствующих не оказал мне помощи, когда я опять полез в воду, чтобы извлечь из неё Павла Самуиловича, — в нескольких метрах от берега он уже пассивно качался на волнах, как мне показалось, в полусидячем положении. Ушло довольно много времени, пока я наконец доплыл до него, хотя, как я уже сказал, и плыть-то было всего несколько метров; наконец мне это удалось, и я с трудом стал плыть назад вместе с ним. В это время кто-то с берега бросил верёвку, и это помогло мне наконец выбраться из волн. На берегу был врач; он сразу стал делать всё, что полагалось при спасении утопающих; кто-то ему при этом помогал. Я не помню, сколько времени продолжались эти усилия по возвращению к жизни. Но я думал, что Павел Самуилович жив. Поэтому, когда врач отошёл от него на несколько шагов, я подошёл к врачу и спросил его о состоянии Павла Самуиловича. Врач ответил мне: «Que voulez-vous que je fasse avec un cadavre?» 8.
Похороны Павла Самуиловича были 19 августа. В момент погребения опять было солнце. Я сохранил воспоминание о цветах, покрывавших всю могилу. На похоронах было очень много народу: было такое впечатление, что пришли все, кто был тогда в Ле Ба.
* * *
Впервые я увидал П. С. Урысона, должно быть, в 1916 году, когда он был на втором, а я на четвёртом курсе математического факультета Московского университета. Я, как сейчас, вижу перед собою его улыбающееся лицо; одет он был в куртку цвета хаки (тогда студенты часто носили такие куртки), казалось, что он несколько вырос из неё — рукава были коротки. Помню его быстрые движения, жизнерадостность и весёлость, которыми он весь, казалось, светился.
Много лет спустя Л. А. Люстерник написал в стихах свои воспоминания, отрывок которого напечатан в «Успехах математических наук». В этом отрывке есть строчка: «...И милый Павел Урысон...» Она характеризует то впечатление, которое и сам Л. А. Люстерник и очень многие другие сохранили от встреч с П. С. Урысоном.
Конечно, я виделся с Павлом Самуиловичем и в непосредственно следующие годы. Но в 1918 году я уехал сначала в Смоленск, а потом в Чернигов и вернулся лишь в 1920 году. Зиму 1920/21 года и Павел Самуилович и я держали магистрантские экзамены — так называемые «отчёты» (соответствующие теперешним аспирантским экзаменам) , с тою, однако, разницей, что этих экзаменов было гораздо больше и охватывали они более или менее всю тогдашнюю математику — и алгебру, и геометрию, и теорию чисел, и всевозможные отделы анализа. Я жил тогда в Смоленске и для сдачи экзаменов приезжал каждый месяц в Москву; Павел Самуилович держал свои экзамены одновременно со мною — так были назначены экзаменационные комиссии (гораздо большие по количеству членов, чем теперь), а назначались они В. В. Степановым, которому доставляло удовольствие с каждым из нас, а часто и с нами обоими вместе беседовать на темы предстоящих нам экзаменов. Часто получалось так, что и предмет-то мы оба держали один и тот же. Вячеслав Васильевич Степанов даже говорил по этому поводу: «Оба П. С. держат свои экзамены голова в голову», склоняя при этом наши инициалы. Эти совместные экзамены и многочисленные наши разговоры и встречи по их поводу — особенно под незабвенно гостеприимным кровом Вячеслава Васильевича, — конечно, очень содействовали нашему сближению. Но началом нашей дружбы было вот какое обстоятельство. П. С. Урысон, так же как и я, очень любил музыку. Однажды — это было 30 марта 1921 года — он пришёл на очередной экзамен и по его окончании вручил мне билет на вечер бетховенских скрипичных сонат (не помню, кто были исполнители). Я очень обрадовался, и мы вместе пошли на этот концерт, и оба получили от него большое удовольствие; игрались вторая, третья, седьмая и девятая сонаты. В воздухе уже чувствовалось первое дыхание весны, после концерта нам захотелось погулять по московским переулкам, и мы прогуляли по ним до четырёх часов утра. Тут было много разговоров, и математических и нематематических.
Аспирантский период в жизни П. С. Урысона, продолжавшийся с 1919 по 1921 г., целиком попал в незабываемые первые годы формирования советской математической школы. То были годы необычайного подъёма и увлечения внезапно раскрывшимися новыми творческими возможностями, годы подлинного цветения для многих молодых людей, впервые вкусивших радость творческого соприкосновения с наукой в тех новых, небывалых условиях, которые открыла революция. Мало найдётся в истории математической науки периодов столь горячего энтузиазма, как начало двадцатых годов в Московском университете, когда в столь короткий срок, буквально в несколько лет, возникла целая большая научная школа, в значительной степени определившая дальнейшее развитие математики в нашей стране и сразу выдвинувшая целый ряд новых выдающихся учёных. П. С. Урысон сразу же попал в самый центр этого содружества молодых математиков — в первую очередь, конечно, вследствие необычайно яркого своего математического таланта и своей увлечённости наукой, но также и вследствие своего кипучего темперамента и обаятельных свойств своего характера — жизнерадостного, открытого, дружелюбного, совершенно чуждого какой бы то ни было мелочности и ложного самолюбия. Его любили в товарищеской среде, как любят людей, в которых чувствуется подлинное движение большой человеческой личности, одарённой не только в смысле способностей к одной какой-нибудь специальности, но и по всему диапазону эмоциональных, этических и социальных свойств человека.
Математическое творчество П. С. Урысона развивалось бурно и разнообразно. Даже самые аспирантские отчёты Павла Самуиловича надолго запомнились в среде московских математиков того времени: почти каждый его отчёт, даже по специальностям, далёким от основных его математических интересов, содержал тот или иной новый результат или какое-нибудь упрощение или усовершенствование доказательств. Из аспирантских отчётов возникла, в частности, самая, может быть, замечательная работа Павла Самуиловича по математическому анализу, а именно, работа «Об одном типе нелинейных интегральных уравнений», к которой примыкают исследования, сделанные позже различными авторами в самые последние годы. Но уже к весне 1921 года Павел Самуилович в своей творческой работе сосредоточился на топологии.
Топология, как область математики, посвящена изучению основных понятий непрерывности геометрической фигуры в самом широком смысле этого слова и непрерывного преобразования (непрерывного видоизменения или непрерывной деформации) фигуры; она имеет большое принципиальное значение во всей современной системе математических знаний. Это значение возрастает с каждым годом. Вместе с тем возрастает и область применения топологии. В настоящее время топология играет большую роль, например, в таких областях математики, как дифференциальные уравнения, вариационное исчисление и т.п., а эти области уже непосредственно связаны с практикой.
Основное место П. С. Урысона в истории советской математики тем и определяется, что именно он является создателем советской топологии. Эта область математики после классических работ П. С. Урысона широко и плодотворно развивается в СССР, и советская топологическая школа стала одной из самых сильных наших математических школ.
Зимой 1921/22 года П. С. Урысон читал в Московском университете курс под заглавием «Топология континуумов». В этом курсе он излагал только что полученные им открытия. Это был курс топологии, впервые прочитанный в нашей стране. Один из самых замечательных математических курсов, когда-либо прочитанных в стенах Московского университета, исключительный по своей творческой глубине.
Топологические исследования П. С. Урысона обессмертили его имя. Среди этих исследований на первом месте — созданная им теория размерности, которую можно было бы назвать общей теорией пространственных форм (линий, поверхностей, многообразий трёх и более измерений) в самом широком смысле слова 9. Можно сказать, хотя это кажется даже парадоксально, до работ П. С. Урысона не существовало определения линии, которое охватывало бы во всей их общности все геометрические образования, заслуживающие этого названия. Тем более, не существовало общего геометрического определения поверхности. Этим объясняется, что летом 1921 года (когда П. С. Урысон уже закончил аспирантуру и был утверждён доцентом Московского университета) Д. Ф. Егоров поставил перед ним задачу: дать топологическое определение линии и поверхности во всей естественной общности этих понятий. Обе задачи оказались поставленными удачно (хотя с формальной точки зрения и не вполне определённым образом). Павел Самуилович сразу же стал упорно думать над ними. Очень скоро предметом его размышлений стало общее определение размерности (числа измерений). Всё лето 1921 года прошло в напряжённых попытках найти «настоящее» определение, причём Павел Самуилович переходил от одного варианта к другому, постоянно строя примеры, показывавшие, почему тот или иной вариант надо отбросить. Это были два месяца всепоглощающих размышлений. Наконец в одно утро в конце августа Павел Самуилович проснулся с готовым, окончательным и всем теперь хорошо известным определением размерности. Произошло это в деревне Буркове, вблизи Болшева, на берегу реки Клязьмы; там группа тогда молодых московских математиков — в том числе В. В. Степанов, Д. Е. Меньшов, Н. К. Бари — жила на даче. В то же утро, во время купания в Клязьме, П. С. Урысон рассказал мне своё определение размерности и тут же, во время этого разговора, затянувшегося на несколько часов, набросал план всего построения теории размерности с целым рядом теорем, бывших тогда гипотезами, за которые неизвестно было как и взяться и которые затем доказывались одна за другой в течение последующих месяцев. Вся набросанная тогда программа осуществлялась в течение зимы 1921/22 года, к весне 1922 года вся теория размерности была готова. Оставалось её изложить в виде научной работы. Это было сделано Павлом Самуиловичем летом 1922 и зимой 1922/23 года: огромная первая часть знаменитого «Мемуара о канторовых многообразиях», содержащего изложение урысоновской теории размерности, была закончена 20 марта 1923 года. Вторая часть этого мемуара, посвящённая специально линиям (т.е. множествам размерности 1), была подготовлена к печати уже мною после смерти П. С. Урысона, она увидела свет лишь в 1928 году.
Лето 1922 года П. С. Урысон и я провели вместе, близ Болшева, на берегу реки Клязьмы, в поселке Новые Горки, расположенном примерно в километре от деревни Бурково, уже упоминавшейся выше. В то время места в окрестностях Болшева были чудесные. Это была природа в полном смысле слова. Вода в Клязьме была совершенно чистая, её можно было пить (что и делали жители прибрежных поселений). Кругом были луга, леса.
Лето 1922 года было очень жаркое. Вот как мы проводили его. С утра, сразу после пробуждения, мы отправлялись на берег реки, находившейся всего в нескольких десятках метров от дома, в котором мы жили; при этом мы накидывали на себя: я кавказскую бурку, а Павел Самуилович пальто, известное среди учеников Н. Н. Лузина под названием Петергофского (о нём упоминается в воспоминаниях Л. А. Люстерника в связи с поездкой Лузитании в Петроград, в частности и в Петергоф, откуда и название).
Мы брали с собою несколько кусков чёрного хлеба, густо намазанных маслом, а кроме того — карандаши и несколько листов писчей бумаги. С этим имуществом мы проводили на прибрежном лугу всё время, часов до двух-трёх дня. Это были часы очень интенсивных занятий каждого из нас и часы очень оживлённых математических бесед: нами сочинялся наш совместный «Мемуар о компактных топологических пространствах». И он был сделан за это лето. Около трёх часов дня мы возвращались домой и принимались варить очень крепкий кофе. Пили его с тем же чёрным хлебом и маслом. Иногда возвращались несколько раньше и готовили себе мороженое (мороженица у нас была). После этого шли опять занятия — уже дома. В частности, Павел Самуилович писал свой мемуар о канторовых многообразиях.
Иногда мы катались на лодке по Клязьме, которая совсем близко от нас переходила в знаменитый Образцовский пруд: Клязьма была запружена в Образцове и образовывала озеро с множеством заводей, с белыми лилиями, камышами, чайками и другими красотами природы; можно было часами находиться на и в этом пруду, находя в нём всё новые чудеса 10. Мы не сразу достали лодку — в те времена лодочных пристаней и прокатных лодок на Клязьме в окрестностях Болшева не было. Но рядом с нами проживал на даче профессор В. Е. Фомин со своим семейством, и у него была лодка, по-видимому, единственная в тех местах. Нам очень хотелось получить разрешение на пользование ею. И вот мы явились с просьбой об этом к проф. В. Е. Фомину, отрекомендовавшись математиками, доцентами Московского университета. При этом мы оба были босиком и в остальном одеты соответственно, так что на носителей доцентского звания были не очень похожи. Профессор В. Е. Фомин принял нас приветливо, что же касается лодки, то он дал несколько неопределённый ответ, сказав, что собирается её красить, впрочем, пригласил зайти через несколько дней. Через несколько дней — а именно утром 11 июня — мы снова пришли к В. Е. Фомину и получили от него любезное разрешение пользоваться его свежевыкрашенной и ещё едва просохшей лодкой. Когда мы выразили не только благодарность, но и настойчивое желание плавать на лодке сегодня же, В. Е. Фомин ответил, что не возражает, но советует подождать день-другой, пока окончательно высохнет краска, «а то ведь можно вымазаться». Но мы сказали, что это нас не пугает. Мы сейчас же отправились в ней на несколько часов в Образцовский пруд и вернулись очень довольные, хотя и сильно вымазанные красной краской.
Вечером того же дня нам пришлось выступать с докладом в Математическом обществе.
Потом мы узнали, что в промежутке между двумя встречами с нами В. Е. Фомин беседовал о нас с Д. Ф. Егоровым, причём на заданный ему, очевидно, вопрос Дмитрий Федорович ответил В. Е. Фомину: «Математики-то они хорошие, а вот можно ли им доверить лодку, я уж, право, не знаю».
С профессором В. Е. Фоминым проживал и его сын, профессор Сергей Васильевич Фомин, известный математик, которому тогда было пять лет от роду. Мы с ним впервые познакомились в то лето при следующих обстоятельствах. Оставив, по обыкновению, Павел Самуилович своё пальто, а я свою бурку под каким-то кустом на берегу, мы приступили к нашим обычным занятиям на реке — как математическим, так и нематематическим. Когда наступило время возвращаться домой, мы с удивлением и беспокойством констатировали, что ни пальто, ни бурки нет. Мы пришли в большое затруднение и, собственно, не знали, что нам делать. Решили оставаться на прибрежном лугу в ожидании дальнейшего развития событий. Прошло довольно много времени, и мы снова, не имея, впрочем, никаких надежд, приблизились к кусту, под которым была оставлена наша утраченная одежда. Каково же было наше изумление, когда мы её увидели в полной неприкосновенности на старом месте и одновременно услышали громкий и радостный смех — это профессор Фомин (младший) и его мало отличавшаяся от него по возрасту сестра выражали свои чувства удовлетворения по поводу удачно осуществлённого эксперимента.
Так проходили дни за днями, недели за неделями. Однако привычный ритм жизни внезапно нарушился: у Павла Самуиловича случился приступ малярии (полученной, очевидно, год тому назад тут же на Клязьме). Я опасался, что нашему летнему пребыванию в Новых Горках пришёл конец, однако Павел Самуилович решил иначе: как только, по миновании первого приступа, через день наступил второй и диагноз малярии был поставлен, Павел Самуилович сам принялся за лечение ежедневными массивными приёмами хинина. Приступы более не возобновлялись, и мы благополучно прожили в Горках до 1 октября, после чего наконец возвратились в Москву.
Зимой 1922/23 года П. С. Урысон в основном был занят окончанием подготовки к печати своей основной работы о канторовых многообразиях: работа ведь получилась в 250 с лишним печатных страниц, можно только удивляться, что она так быстро была написана, особенно имея в виду, что Павел Самуилович не прерывал и других своих научных занятий. Так, этой же зимой он увлёкся теорией относительности, основательно изучил её, настолько, что прочёл в Московском университете курс — первый курс, прочитанный в Московском университете по этому предмету.
Весною 1923 года мы оба (и С. С. Ковнер) поехали за границу в Гёттинген. Гёттинген и Париж были тогда двумя математическими столицами мира. Летом в Гёттингене можно было видеть математиков, приехавших буквально со всего света. В самом Гёттингене профессорами тогда были такие выдающиеся математики, как Гильберт, Курант, Эмми Нётер, Эдмунд Ландау и другие. Был жив ещё и Феликс Клейн. В свои 75 лет он доживал в лучах своей славы последние годы жизни. Почти лишённый способности самостоятельно передвигаться, он не выходил из своего дома и в университетской жизни участия не принимал. Однако он был, не номинальным только, а фактическим руководителем и редактором первого немецкого математического журнала «Mathematische Annalen», бывшего в то время, вероятно, и первым по своему научному весу математическим журналом во всём мире. Клейн принял нас обоих у себя дома; он заставил нас в течение почти часа рассказывать ему, что такое размерность и что такое бикомпактные топологические пространства, и отнёсся благосклонно к нашим работам.
Всеми признанным главой математического Гёттингена и, вероятно, величайшим из живших тогда математиков был Давид Гильберт. Отпраздновав год тому назад своё шестидесятилетие, он был полон сил и с большим воодушевлением не только работал тогда в области математической логики и оснований теории множеств, но и охотно рассказывал о своих работах и новых идеях в многочисленных докладах и лекциях. Курант был его правой рукой во всём, что относилось к руководству математической жизнью Гёттингена. И Гильберт и Курант встретили нас, молодых советских математиков, чрезвычайно ласково и тепло. Мы не только слушали лекции гёттингенских математиков и встречались с ними в университете и на еженедельных собраниях Математического общества и курантовского семинара, но часто приглашались на дом и к Гильберту, и к Куранту, и к Ландау.
В один из июньских вторников в Математическом обществе состоялись доклады П. С. Урысона и мой. Надо прямо сказать: эти доклады имели успех; они вызвали интерес, в частности Гильберта, и этот интерес определил то, что можно назвать признанием наших работ в Гёттингене, а следовательно, и не только в нём — уж таково было тогда положение Гёттингена в мировой математике. Гильберт сделал нам лестное предложение: написать изложение наших основных результатов по теории топологических пространств для «Mathematische Annalen», что и было нами тогда же выполнено: были написаны три статьи, из которых одна была совместная, одна была написана П. С. Урысоном и одна — мною. В основном в этих статьях излагались наиболее важные из результатов, полученных нами летом прошлого, 1922 года.
Самый тесный научный контакт мы тогда установили с великой алгебраисткой Эмми Нётер. Она создала совершенно новое направление в алгебре, названное впоследствии общей или абстрактной алгеброй. Её идеи в последние десятилетия оказывали всё возрастающее влияние на различные части современной математики. У Эмми Нётер было много учеников, и во всей её школе господствовала большая простота и сердечность отношений. Вся атмосфера этой научной школы была необыкновенно привлекательна, и мы очень скоро почувствовали себя в ней как дома.
В Гёттингене была старая традиция «математических прогулок» по разным специальностям. Так, были знаменитые прогулки (и пожалуй, столь же знаменитые музыкальные вечера), объединявшие участников курантовского семинара; очень оживлённо было на нётеровских алгебраических прогулках, кстати, переименованных в связи с нашим приездом в «тополого-алгебраические». Местом постоянных встреч математиков различных возрастов, начиная от Гильберта и кончая совсем молодыми студентами, было университетское купальное заведение — кусок берега реки Лейне (на которой стоит Гёттинген) со старыми деревьями и зелёными лужайками. Тут на реке была плотина, которая никогда не закрывалась совсем, так что река образовывала водопад и под ним — небольшое озерко, где и происходили плавание, катание на плоту и другие подобные развлечения. Здесь велось и много интересных математических разговоров. Постоянным посетителем этого купального заведения был и молодой тополог Кнезер, ровесник П. С. Урысона, с которым мы оба тогда подружились и с которым я и до сих пор поддерживаю тёплые дружеские отношения.
Так — интересно, оживлённо, разнообразно и весело — шли дни нашей гёттингенской жизни. Но 1 августа (как всегда) кончился гёттингенский летний семестр 1923 года. Это были три месяца очень интенсивной работы, после которой можно было и отдохнуть. В качестве отдыха мы с Павлом Самуиловичем поехали в Норвегию пароходом из Гамбурга в Ставангер, а затем предприняли по Норвегии пешеходное путешествие из Ставангера до Мольде. Вернулись поездом в Осло и затем опять пароходом в Гамбург. Всё путешествие длилось ровно месяц, первого сентября мы были снова в Гёттингене, где и прожили весь сентябрь. Этот месяц (как и август и половина октября) — время каникул в немецких университетах; в Гёттингене, как и в других университетских городах, это время полного затишья. Но библиотека была открыта, в ней можно было читать, а дома можно было работать. Павел Самуилович жадно накинулся на новую литературу и усиленно изучал знаменитую работу Биркгофа о динамических системах. Он много занимался этими вопросами следующую зиму и поставил перед собою новые и трудные задачи.
Я не могу здесь говорить о научных работах, которые сделал П. С. Урысон отчасти сам, отчасти совместно со мною зимой 1923/24 года. В частности, этой зимой была доказана наша совместная теорема о метризации топологических пространств. Во всяком случае, интенсивность научного творчества П. С. Урысона не ослабевала, а его математические интересы делались всё более и более широкими.
Лето 1924 года мы снова провели в Гёттингене, снова принимая самое деятельное участие в научной и в университетской жизни. Однако мы уехали из Гёттингена примерно за месяц до конца семестра, в самом начале июля; мы поехали сначала в Бонн к Хаусдорфу, а через неделю в Голландию к Брауэру; после этого несколько дней провели (уже как туристы) в Париже, а оттуда в конце июля поехали на море в Бретань.
Дальнейшее читателю уже известно.
* * *
Вся научная деятельность П. С. Урысона продолжалась всего четыре года, и за эти немногие годы он сделал вклад в науку не только не забытый за истёкшие со дня смерти десятилетия, но доказавший свою жизненность в тех многочисленных дальнейших исследованиях, которые прямо или косвенно примыкают к работам П. С. Урысона. Трудно да и бесполезно гадать о том, в каких бы дальнейших направлениях развивалось математическое творчество П. С. Урысона, если бы его жизнь не оборвалась так преждевременно и так трагически. Но несомненно, что математическая наука потеряла очень большого учёного. Его одарённость проявлялась во всем: в лекциях, которые он читал, в умении и любви работать, в его живом отношении ко всему, что происходило вокруг. Вот почему образ П. С. Урысона остаётся незабываемым для всех кто его знал.
ПРОФЕССОР В. А. ЕФРЕМОВИЧ
Три года с Урысоном
С Павлом Самуиловичем я познакомился в декабре 1920 года. Ему было 22 года, он только в прошлом году окончил Московский университет и теперь вёл упражнения по математике со студентами первого курса Московского высшего технического училища; нас в группе было человек 25. Доской пользовались почти исключительно для записи условий задачи, а решали мы их у себя в тетрадях. Павел Самуилович стремительно переходил от одного к другому и чуть-чуть подталкивал решение у каждого и каждому успевал указать что-нибудь интересное по ходу решения. Занятия проходили очень живо — два часа пробегали быстро. Он вносил свой энтузиазм в занятия и заражал им нас. В каждом, даже мелком, математическом явлении он умел усмотреть интересное зерно, подчёркивал неожиданные, иногда ошеломляющие своей кажущейся парадоксальностью факты — это заставляло его улыбаться; он весь светился улыбкой, казалось, что он вместе с нами впервые переживает новизну и увлекательность явлений.
Иногда мы шли из училища вместе, и он отвечал на мои вопросы. Неожиданно я встретил его в университете на собрании математического кружка; тогда я не знал, что именно здесь, на Моховой, его настоящее место, поэтому очень удивился встрече. Позже, слушая его доклады в кружке и на заседаниях Математического общества, я это хорошо понял. И опять освещающая всё лицо улыбка. Теперь, почти через полвека, я вспоминаю его только улыбающимся. Конечно, я знаю, он не всегда улыбался, но вспомнить его лицо без сияющей улыбки могу только по хранящимся у меня фотографиям. Нет, не совсем точно: вспоминаю его и сосредоточенно думающим, решающим трудную проблему; и вдруг опять внезапно лицо осветилось улыбкой — решение найдено, сейчас, так же ослепительно улыбаясь, он его расскажет. Таким я вспоминаю его уже позже, когда участвовал в первом его самостоятельном научном семинаре, и ещё позже, когда перед окончанием университета я под его руководством писал дипломную работу (1923/24). Помню его небольшую комнату в Старопименовском переулке, рабочий стол с наклонной чертёжной доской, запас цветных карандашей, которые он любил пускать в ход, объясняя сложную геометрическую конструкцию.
Помню первый его научный семинар по теоремам существования в дифференциальных и интегральных уравнениях (1921/22), семинар, возникший по просьбе студентов 2-го и 3-го курсов. На первое собрание мы шли гурьбой (человек 20) с Моховой на Старопименовский. Для нас в его комнате не хватило места, поэтому была оккупирована столовая, где все разместились за большим столом.
В 1922 году я слушал его курс «Топология областей». Это был его второй спецкурс; первый он читал в течение двух лет с особым воодушевлением — там часто сообщались результаты, полученные им буквально вчера.
Когда наступило время выбирать тему дипломной работы, он постарался помочь мне это сделать в соответствии с моим уже определившимся вкусом, хотя комбинаторная топология находилась в стороне от его собственных научных занятий: тогда у нас ещё никто ею серьёзно не занимался. Он сам только начинал с нею знакомиться, читал знаменитые мемуары Пуанкаре — почти единственный в то время источник информации в этой области. Меня поражала его способность быстро осваиваться с новыми, для него непривычными фактами и методами. После его критических замечаний мне пришлось совсем заново писать дипломную работу; её окончательный вариант весьма мало походил на первоначальный — это мне принесло большую пользу: он меня научил строгому отношению к написанному мной, а без этого нельзя стать самостоятельным математиком.
С какой радостью я услышал от него предложение проходить аспирантуру под его руководством! Это было весной 1924 года перед его отъездом в заграничную командировку. Последние математические беседы происходили уже на ходу: я его провожал, когда он делал покупки перед самым отъездом. Увы, это был наш последний разговор. Теперь хочу дать представление о тех весьма важных открытиях в математике, которые успел сделать за свою короткую жизнь П. С. Урысон. Я принужден выбрать лишь немногое из них: то, что произвело на меня самое глубокое впечатление, и вместе с тем то, что, мне кажется, можно на нескольких страничках понятно рассказать неспециалисту.
«Положение П. С. Урысона в истории математической науки, — говорит почётный президент Московского математического общества П. С. Александров, — определяется прежде всего тем, что он явился создателем советской топологии». Советская топологическая школа в короткий срок стала одной из ведущих топологических школ мира. П. С. Урысон продолжил начатое М. Фреше (Франция), Ф. Риссом (Венгрия), Ф. Хаусдорфом (Германия) исследование понятия топологического пространства; в значительной степени благодаря его работам основы топологии получили надёжный фундамент, а само понятие топологического пространства получило в конце концов свой теперешний чрезвычайно общий и вместе с тем чрезвычайно чёткий характер.
П. С. Урысон оказал большое влияние на последующую деятельность многих крупнейших советских и зарубежных математиков. Прежде всего непосредственно на П. С. Александрова, А. Н. Колмогорова, Л. А. Люстерника, В. В. Степанова, Л. Г. Шнирельмана и многих других, а своими работами — на Л. С. Понтрягина, М. А. Красносельского и многих, многих других.
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ П. С. УРЫСОНА
I. Теория размерности
Что понимают под такими утверждениями: линия — фигура одного измерения, поверхность — двух, пространственное тело — фигура трёх измерений. Если рассматривать простые линии, например железнодорожную ветку, связывающую два пункта (Дудинка–Норильск), то такое утверждение для неё имеет простой смысл: каждый пункт на этой линии определяется одним числом (координатой), например расстоянием вдоль линии от начального пункта (всякому понятна фраза: тепловоз остановился на 27 километре от Дудинки, 27 — это координата тепловоза). На поверхности для определения положения любого пункта необходимо задать два числа — две координаты, например, на поверхности Земли долготу и широту. В пространственном теле для указания положения любой его точки необходимо три числа, например, две координаты x, y её проекции на горизонтальную плоскость и расстояние z от этой плоскости. Теперь понятно, что́ имеют в виду, когда говорят, что точки линии образуют совокупность одного измерения, точки поверхности — двух измерений, точки геометрического тела — совокупность трёх измерений.
В различных отделах математики, физики, естествознания часто приходится встречаться с совокупностями более чем трёх измерений. Так, совокупность всех прямых нашего пространства четырёхмерна; для задания положения прямой необходимо указать 4 числа, например, две координаты точки её пересечения с плоскостью потолка и две координаты точки пересечения с плоскостью пола. Все возможные положения самолёта в воздухе образуют совокупность шести измерений: три координаты центра тяжести и три угла, определяющих ориентацию самолёта. Если же учитывать не только возможное положение самолёта, но и возможные скорости, то придётся сказать, что всевозможные «состояния» самолёта в воздухе образуют совокупность 12 измерений (так называемое «фазовое пространство» самолёта).
Однако даже для линий, но более сложных (например, для железнодорожной сети всего Союза) не так просто ответить на поставленный вначале вопрос. Ещё труднее это сделать для сложных «фигур», рассматриваемых в теории множеств или в математическом анализе; так, «фигура», заданная на плоскости уравнением f (x, y)=0, где левая часть — непрерывная функция координат, может оказаться чрезвычайно сложным множеством 11. До П. С. Урысона не было, в сущности, известно, какие фигуры следует называть линиями, т.е. фигурами одного измерения; тем более трудным был вопрос, что такое (в самом общем случае) поверхность или фигура двух измерений; что такое фигура трёх, четырёх и более измерений. Этому вопросу в начале нашего века гениальный французский математик А. Пуанкаре посвятил опубликованную в философском журнале статью «Почему наше пространство имеет три измерения». Далеко развив намеченные в ней идеи, П. С. Урысон в 1922 году не только исчерпывающе решил эту задачу для самых сложных фигур, в самом общем случае, но и построил общую теорию размерности (числа измерений) в обширном мемуаре «О канторовых многообразиях», содержащем множество интересных и важных геометрических фактов и теорем. Эта теория после его смерти была широко развёрнута его последователями, особенно П. С. Александровым и Л. С. Понтрягиным, а также многими другими математиками — и нашими и зарубежными.
2. Универсальное метрическое пространство
Одно из наиболее важных свойств пространства проявляется в том, что каждые две его точки находятся друг от друга на определённом расстоянии. Это расстояние, выраженное, например, в метрах, есть положительное число. Все геометрические свойства фигур могут быть выведены из рассмотрения расстояний между точками. Так, углы треугольника вычисляются тригонометрически через длины сторон (т.е. расстояния между вершинами); площадь треугольника (а следовательно, и любого многоугольника) выражается через попарные расстояния между его вершинами; объём тел, длины линий — всё может быть выражено через расстояния.
Две фигуры называются конгруэнтными (или изометричными), если они могут быть наложены друг на друга всеми своими точками. Подразумевается, что ни одно расстояние при этом наложении не изменяется. С точки зрения геометрии, такие фигуры рассматриваются как совершенно одинаковые («равные»), как два экземпляра одной и той же вещи.
В математике очень важное значение с начала нашего века приобрело понятие метрического пространства. Так называют собрание любых предметов, условно называемых «точками», «если для каждых двух из них установлено положительное число, называемое (условно) «расстоянием» между ними. Конечно, наше пространство представляет собой частный случай метрического. Другим хорошо известным примером может служить шкала времени; роль «расстояния» между двумя моментами («точками») играет промежуток времени между ними. Совокупность всех пунктов (например, земной) поверхности образует метрическое пространство F, если расстояние между пунктами считать по кратчайшим линиям на поверхности. Совсем другое метрическое пространство F* получится из той же поверхности, если расстояния измерять по хордам. Железнодорожная сеть тоже образует метрическое пространство, если расстояние между пунктами считать вдоль кратчайшего пути по железной дороге.
Вот более сложный, но очень важный для современной математики пример. В некоторых задачах (скажем, в вариационном исчислении) приходится рассматривать совокупность всех непрерывных функций f (t), задаваемых, например, на отрезке 0≤t≤1. Эта совокупность превращается в метрическое пространство, если функции f считать его точками и условиться, что́ называть «расстоянием» между любыми двумя из них. Желательно это сделать так, чтобы из малости «расстояния» f1 f2 следовало, что функции f1 и f2 мало отличаются друг от друга. Проще всего для этого за «расстояние» f1 f2 принять наибольшее из отклонений численных значений f1(t) и f2(t) при всех t:
f1 f2 = max | f1(t) – f2(t)| при 0≤t≤1.
Так, определённое метрическое пространство — это знаменитое функциональное пространство C, играющее очень важную роль в современном функциональном анализе. Буква U (первая буква слова Universal) была взята Урысоном для обозначения универсального пространства. Теперь математики обозначают это пространство буквой U в честь Урысона (Urysohn).
Во всяком метрическом пространстве любая его часть сама образует метрическое пространство (его называют подпространством), так как между любыми двумя точками в ней уже существует расстояние. Так, пространство F*, которое было образовано из поверхности, есть подпространство обычного пространства. Естественно возникает обратная задача: нельзя ли построить такое пространство, чтобы всякое метрическое пространство (достаточно широкого класса) было равно (изометрично) некоторой его части. Вот эту задачу поставил и блестяще разрешил П. С. Урысон незадолго до смерти. Для весьма широкого класса пространств (практически охватывающего наиболее важные для математики и её приложений метрические пространства) он построил универсальное пространство U. Это значит: для любого пространства этого широкого класса найдётся в U часть, ему изометричная. Пространство U, как показал П. С. Урысон, обладает рядом замечательных свойств, в частности высокой степенью однородности; не только все его точки равноправны, но любые две конгруэнтные пары или тройки, четвёрки... точек в нём расположены одинаково. (Это значит, что подходящим движением всего пространства они могут быть переведены друг в друга.) Много позднее польские математики С. Банах и С. Мазур показали, что свойством универсальности обладает также описанное выше пространство C. Однако оно не обладает той высокой степенью симметрии (или однородности), как U; с геометрической точки зрения, пространство U устроено более совершенно. Оба эти пространства, понятно, имеют бесконечную размерность в смысле Урысона, так как они содержат в себе части, изометричные пространствам сколь угодно большого числа измерений.
3. Что такое топология
Главные работы П. С. Урысона (и, в частности, вся теория размерности) относятся к одной из молодых ветвей математики — к топологии. Топология очень быстро и неожиданно для самих математиков завоевала себе совершенно исключительное место в современной математике: не много найдётся теперь отделов математики, куда бы не проникли топологические идеи и топологические методы, во многих случаях произведшие в этих отделах радикальные изменения. Что же такое топология, чем она занимается? Она изучает наиболее стойкие геометрические свойства, именно те свойства фигур, которые не нарушаются при всевозможных взаимно непрерывных преобразованиях, т.е. таких, которые нигде не разрывают фигуру, причём и вновь полученная фигура при возвращении назад к исходной тоже нигде не должна терпеть разрывов. Такие преобразования, взаимно однозначные и взаимно непрерывные, кратко называются топологическими. Вы лучше поймёте, что такое непрерывность преобразования, рассмотрев простой пример. Представим себе окружность в виде аптечной резинки для упаковки лекарств; её, как угодно растягивая, сжимая, изгибая, можно превратить в самые различные замкнутые линии, в частности, ей можно придать форму эллипса, треугольника, четырёхугольника, но при этом будьте осторожны, чтобы резинка не разорвалась; конечно, это уже не было бы непрерывным преобразованием. Чтобы ещё лучше вникнуть в самую суть непрерывности, посмотрим, что происходит там, где непрерывность нарушается, т.е. около той точки, где наступает разрыв. Разрыв в точке A — это удаление от неё некоторой части B фигуры: разрыв в точке A происходит, тогда, когда некоторая часть B, бесконечно близкая к A, перестаёт быть к ней близкой (см. чертёж): A' и B' — это та же точка A и та же часть B, но после разрыва.
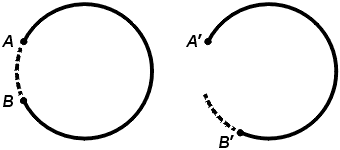
Теперь можно сформулировать точное определение непрерывности: преобразование фигуры называется непрерывным в точке A, если оно переводит любую часть B фигуры, близкую к A, в часть B' преобразованной фигуры, которая близка к A' (A' — та точка, в которую перешла A). Короче говоря, непрерывное преобразование не разрушает близости между точкой и подмножеством.
После всего сказанного можно выяснить, что такое топологическое пространство. В математике и её приложениях постоянно приходится иметь дело с бесконечными совокупностями объектов, где естественным образом задано отношение близости (например, совокупность всех прямых или всех окружностей пространства, совокупность функций, определённых на данном отрезке, множество положений или состояний самолёта в пространстве и т.п.). Всякое такое множество (независимо от конкретной природы составляющих его элементов) называется топологическим пространством, если указано для каждой его части (подмножества), какие элементы считаются близкими к ней. Сами элементы называются «точками» топологического пространства.
Выработке такого окончательного по своей общности взгляда на топологию много способствовал Павел Самуилович.
4. Работы по общей топологии
Лемма Урысона
Павлом Самуиловичем были заложены основы теории топологических пространств, или, как теперь говорят, основы общей топологии. Коснусь лишь нескольких вопросов.
Всякое метрическое пространство само по себе уже оказывается топологическим пространством, так как в нём для каждого множества M известно, какие точки близки, — это точки, расстояние которых от M равно нулю. Но всякое ли топологическое пространство может быть превращено в метрическое пространство введением метрики, согласованной с его топологией (т.е. так, чтобы близость точки к множеству означала равенство нулю расстояния между ними). Оказывается, не всякое. Первые теоремы метризации были установлены П. С. Урысоном. Самая известная из них утверждает, что так называемые нормальные пространства со счётной базой всегда могут быть метризованы. Для доказательства этой важной теоремы П. С. Урысон доказал свою знаменитую лемму, которой суждено было стать даже более важной, чем сама теорема; она неоднократно применялась и постоянно применяется сейчас в новых работах. Впоследствии она была перенесена в некоторые другие пространства. Лемма Урысона: в нормальном топологическом пространстве для любых двух замкнутых 12 множеств F0 и F1 без общих точек можно построить числовую непрерывную функцию f, принимающую значение 0 во всех точках F0, значение 1 во всех точках F1, а в остальных точках пространства — промежуточные значения. (В метрическом пространстве для построения такой функции достаточно положить f (x) равным отношению расстояния 13 от точки x до F0 к сумме этого расстояния с расстоянием от x до F1:
но в топологическом пространстве дело совсем не так просто.)
Большое значение для общей топологии имеет и теорема Урысона о вложении топологических пространств в гильбертово пространство (т.е. евклидово пространство бесконечно большого числа измерений). Эта теорема утверждает, что для любого топологического пространства T весьма широкого класса найдётся в гильбертовом пространстве часть T1, топологически эквивалентная T, т.е. гильбертово пространство с топологической точки зрения обладает высокой степенью универсальности.
АКАДЕМИК А. Н. КОЛМОГОРОВ
Научный руководитель
Первые мои воспоминания о Павле Самуиловиче Урысоне относятся к зиме 1920/21 года, когда я только начинал свои занятия в университете. Болеслав Корнелиевич Млодзеевский и Николай Николаевич Лузин объявили параллельные курсы «Теории аналитических функций». Хотя курсы были элементарные, предназначенные для студентов второго или третьего года обучения, на лекциях Лузина собиралась почти вся «Лузитания» — группа учеников Николая Николаевича, в основном, говоря современным языком, аспирантского возраста. Некоторые из лузитанцев в качестве своего рода соглядатаев появлялись и на лекциях Болеслава Корнелиевича. Ученики Николая Николаевича были ревнители логической строгости и отмечали каждую оплошность Болеслава Корнелиевича в этом отношении. Впрочем, Болеслав Корнелиевич вполне сознательно давал их критике богатую пищу. Как-то на своих лекциях дифференциальной геометрии он высказал нам такое нравоучение: «Некоторые вам говорят, что не существует бесконечно малых, а вот смотрите — я рисую на доске бесконечно малый треугольник!» В теории аналитических функций Болеслав Корнелиевич без лишней, по его мнению, в элементарном курсе логической скрупулёзности быстро двигался от элементарных определений и теорем к более глубоким конкретным аналитическим фактам.
Курс же Николая Николаевича надолго задержался на доказательстве при самых общих предположениях (что тогда ещё было необычным в элементарных курсах) так называемой «теоремы Коши», лежащей в основе всей теории аналитических функций. По своему обычаю, Николай Николаевич создавал доказательство на лекциях, обращаясь к помощи слушателей. Ему пришло в голову построить доказательство теоремы Коши на некотором вспомогательном чисто геометрическом утверждении, которое и было предложено нам доказать. Мне удалось показать, что в действительности это утверждение ошибочно. Николай Николаевич сразу понял идею примера, опровергающего это предположение. Было решено, что я доложу опровергающий пример на студенческом математическом кружке.
Павел Самуилович взялся предварительно проверить мои построения и доказательства, которые сначала были изложены не вполне строго. Говорилось просто, что некую кривую, «очевидно», можно слегка сдвинуть так, что без большого увеличения длины она обойдёт такие-то точки, и т.п. Павел Самуилович очень деликатно, но настойчиво достиг того, что я сам подсчитал все относящиеся сюда «эпсилон и дельта».
Хотя моё достижение было довольно детским, оно сделало меня известным кругу лузитанцев, от которого я стоял, впрочем, несколько в стороне, колеблясь между культивировавшимися в их среде интересами, возникшим ранее увлечением проективной геометрией (которую старомодно, но подлинно талантливо читал Алексей Константинович Власов) и смутным желанием заниматься математикой, имеющей широкие выходы в физику и естествознание. В следующем, 1921/22 учебном году я посещал лекции Н. Н. Лузина и П. С. Александрова уже в качестве «своего», получив, кажется, даже № 16 в нумерации лузитанцев. Мои попытки заниматься по следам лекций П. С. Александрова «дескриптивной теорией множеств» первое время приводили лишь к скромным результатам. Не помню даже, рассказывал ли я их кому-либо подробно. Тем не менее что-то заставило Павла Самуиловича обратить на меня своё внимание. Однажды, после одной из лекций Лузина, Павел Самуилович подошёл ко мне на университетской лестнице и стал объяснять, что «в ближайшее время Николай Николаевич не собирается брать себе новых учеников» и поэтому не захочу ли я приходить к нему (Павлу Самуиловичу) и заниматься у него. Я охотно согласился.
Много раз приходил я к Павлу Самуиловичу в его комнату в Старопименовском переулке, где, кроме кровати и маленького рабочего столика, помещались лишь кресло и один стул.
Беседы касались самых разных областей математики: интересы и знания Павла Самуиловича были широки. В наибольшей мере Павел Самуилович пытался меня вовлечь в свои занятия проблемой Пуанкаре о замкнутых геодезических линиях на поверхностях. Проблема привлекательна тем, что формулировка вполне элементарна. Если не придираться к формальной отточенности определений, её можно объяснить «человеку с улицы», взяв скользкий, скатанный морскими волнами камень и резиновое колечко. Гипотеза Пуанкаре состоит в том, что по крайней мере тремя различными способами растянутое резиновое колечко можно надеть на наш камень так, что оно, стремясь сократить свою длину, не будет соскальзывать (т.е. так, что его длину нельзя уменьшить при маленьком сдвиге в сторону на небольшом участке). При этом рассматриваются только расположения резинового колечка без самопересечений (т.е., например, не имеющие вида восьмёрки). На поверхности шара таких расположений колечка бесконечно много (по любому «большому кругу»), на трёхосном эллипсоиде — ровно три (по трём главным сечениям). Гипотеза заключается в том, что случай эллипсоида минимальный, что три замкнутых геодезических без самопересечений найдутся на любой замкнутой выпуклой поверхности (или ещё более общим образом, на любой поверхности «гомеоморфной» поверхности сферы). Самому Пуанкаре удалось доказать существование одной замкнутой геодезической. Павел Самуилович доказал существование второй и упорно искал доказательства существования третьей.
Весь примыкающий сюда круг вопросов мне очень нравился, он соответствовал моим представлениям о той математике, которой наиболее следует заниматься. Но доказать существование третьей замкнутой геодезической прямыми наивными рассмотрениями без привлечения новых методов, видимо, было не так легко 14. Зато мои занятия более абстрактной теорией множеств, возбуждённые слушанием лекций П. С. Александрова, привели меня к замыслу весьма общей «теории операций над множествами». Свои соображения по этому поводу, а затем и результаты я рассказывал Павлу Самуиловичу. Убедившись, что это направление исследований занимает меня более всего, Павел Самуилович отправил меня к П. С. Александрову, считая, что тот может с большим успехом руководить моей работой по дескриптивной теории множеств.
В этом же году я начал заниматься в семинаре по тригонометрическим рядам, где верховным руководителем был Н. Н. Лузин, а я занимался в группе, руководимой Вячеславом Васильевичем Степановым. Результаты, полученные мною в теории тригонометрических рядов, обратили на себя внимание Николая Николаевича, и с некоторой торжественностью Николай Николаевич предложил мне приходить в определённый день и час недели, предназначенный для группы учеников моего поколения, к нему. По представлениям, господствовавшим в «Лузитании», моим званием делалось теперь звание ученика Николая Николаевича, что не мешало, конечно, научному контакту со старшими товарищами по «Лузитании».
Внутренняя логика моих собственных занятий привела меня к топологии лишь много позднее, после увлечений математической логикой и теорией вероятностей. Сейчас мне несколько грустно думать, что в столь короткий период концентрированной научной активности Павла Самуиловича я соприкоснулся с его неповторимой творческой индивидуальностью лишь по периферии его интересов.
Московская математика того времени была богата яркими и талантливыми индивидуальностями. Но Павел Самуилович и на этом фоне выделялся универсальностью интересов в соединении с целеустремлённостью в выборе предмета собственных занятий, отчётливостью постановки задач (в частности, передо мной, когда он считал себя ответственным за направление моей работы), ясной оценкой своих и чужих достижений в соединении с доброжелательством в применении к достижениям самым маленьким.
ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ АН СССР Л. А. ЛЮСТЕРНИК
«...И милый Павел Урысон»
Я познакомился с Павлом Самуиловичем Урысоном, кажется, в сентябре 1920 года; о более раннем периоде его жизни знаю лишь понаслышке. Приведу два рассказа покойного Семёна Самсоновича Ковнера:
В 1915/16 году Павел Самуилович вместе с М. Я. Суслиным слушал в университете Шанявского лекции Б. К. Млодзеевского по римановым поверхностям. В связи с этими лекциями и выполнена была тогда первая математическая работа Павла Самуиловича.
Рассказчик вдвоём с Павлом Самуиловичем шли по улице в начале 20-го года, обсуждая какой-то математический вопрос. Прохожий, услыша обрывки разговора, остановился и спросил с удивлением: «Это вы говорите о тригонометрии?». Он обрадовался тому, что ещё говорят о тригонометрии.
Именно в первые послереволюционные годы, 18–20-е, Павел Самуилович выполнил ряд исследований по тригонометрии. Одна из них открыла большую серию советских работ по нелинейным интегральным уравнениям; термин «интегральные уравнения» типа Урысона прочно установился в математической литературе. Другая — о структуре границ плоской области — его первая топологическая работа.
Осенью 20-го года наладилась математическая жизнь — учебная и научная — в Московском университете. Вокруг Н. Н. Лузина стала собираться студенческая молодёжь, среди неё Павел Самуилович, отнюдь не старший по возрасту, занял положение старшего по авторитету. Мы чувствовали силу Павла Самуиловича и по тому, как легко он решал задачи, возникавшие в семинарах и беседах математиков.
Но Павел Урысон был не только объектом уважения — его любили. Его обаяние заключалось в соединении огромного дарования и высокой интеллектуальной культуры с юношеской непосредственностью, и в его милой улыбке иногда даже сквозило что-то детское.
К тому же, увлечённый собственной работой, Павел Самуилович был способен получать удовлетворение и от чужих результатов. Мы увидим, как он восхищался построениями Лузина. А вот ещё рассказ Ковнера: юный А. Н. Колмогоров делает в студенческом математическом кружке доклад о своей первой работе. Павел Самуилович несколько раз произнёс про себя: «Молодец, чисто делает!».
Позже, в 23 году, я, провожая Урысона из университета домой, рассказывал ему о своих работах по разностно-вариационным методам, и сочувственное его отношение явилось для меня моральной поддержкой.
Научная молодёжь старалась украсить тогдашнюю нелёгкую жизнь всякой выдумкой. В «Лузитании» серьёзная работа совмещалась со своеобразной игрой (одно другому помогало). Урысон вносил в неё своё изящное остроумие и мягкий юмор. Тогда, в 21 году, возникла и «Лузитания» и её «совершенное ядро», куда входили самые преданные ученики Лузина, включая Урысона, и иерархия «алефов» (термины для обозначения мощности); вступающий в «Лузитанию» получал звание «алеф-ноль», а каждый успех — первая публикация, первое выступление в Обществе и т.д. — увеличивал индекс на 1. П. С. Урысон получил «алеф-пять». А когда бог Гименей проник в «Лузитанию», Павел Самуилович шутливо возражал против «мезальянса» — в намечавшейся супружеской паре только одна сторона входила в совершенное ядро.
Урысон был тогда преданным поклонником Лузина, но ему не была свойственна узость научных интересов, наблюдавшаяся в «Лузитании». Он был математиком широкого диапазона, и это отразилось и на тематике его ранних работ, и позже, в «топологический период», мы встречаем у него работы и по функциональным уравнениям, выпуклым фигурам, граничным свойствам потенциала. П. С. Урысон не случайно был зачинателем того похода за расширение тематики, которому суждено было превратить московскую математическую школу «узкого профиля» в универсальную математическую.
В июне 21 года Павел Урысон едет вместе с другими московскими математиками-профессорами, аспирантами и студентами в Петроград, где отмечалось столетие со дня рождения П. Л. Чебышёва. На юбилейной научной конференции выступали от гостей профессора Н. Н. Лузин и А. И. Некрасов и — как представитель молодёжи — П. С. Урысон. Но он волновался перед докладом Н. Н. Лузина больше, чем перед своим. Николай Николаевич по ходу доказательства чертил серию кругов, и, когда он кончил, Павел Самуилович подбежал к нему и с восторгом воскликнул: «Николай Николаевич, вы их — петроградцев — совсем забили своими кругами».
Июнь — время белых ночей. Павел Урысон целые ночи вместе с товарищами гуляет по городу, участвует в поездке в Петергоф. Во время прогулки по петергофскому парку пошёл дождь, кое-кто разулся. Помню, как с выражением детской радости на лице он шлёпал по лужам. На нём было длинное пальто, и когда он засучил брюки до колен, то казалось, что на нём только пальто — «Петергофское пальто Урысона» (как говорили в «Лузитании»).
Так кончилась научная юность Урысона. А осенью 21 года началась серия его замечательных «топологических» докладов в Математическом Обществе; Урысон обрёл свою тематику. Словно чувствуя, что ему отпущено мало времени, он работал с особым подъёмом. За 2½ года он 12 раз выступал в Обществе, но не успел обо всём сделанном рассказать. После кончины Павла Самуиловича в Обществе выступали с докладами о его работах П. С. Александров и В. В. Степанов.
Но и в эти годы научной зрелости и растущего признания Урысон не возгордился своими успехами, не изменился в отношениях с товарищами, оставался таким же молодым.
25 января 1922 года, в традиционный университетский праздник Татьянин день, московские математики разных поколений — от студентов-первокурсников до профессоров — встретились на квартире А. Ю. Зеленской. П. Урысон «открыл» праздник шуточным докладом — он прочёл его с такой же серьёзностью, как свои доклады в Обществе, — на тему: «Интеграл от субъективного счастья в пределах от рождения до смерти человека равен нулю».
Субъективное счастье — производная от объективного. По теореме Ньютона–Лейбница этот интеграл равен разности значения объективного счастья в моменты рождения и смерти. Но эти значения равны нулю (если кто-либо не думает, что объективное счастье человека в момент его смерти равно 0, пусть возьмёт какой-либо момент после смерти). Что доказывает теорему.
Как-то я сидел у В. В. Степанова, пришли «оба П.С.» — П. С. Александров и П. С. Урысон и начали оживлённо дискутировать грамматическую проблему, как склонять «Бе» и «А» — названия трамвайных маршрутов. «Бе» — как существительное среднего рода на «е» (Бе — Ба — Бу), «А» — женского рода на «а» (А — Ы — А — Е...). Но как быть с родительным множественного числа от «А»? Решили — «Эй».
Создание в 22–24 годах московской топологической школы связано с дружбой — научной и личной — «двух П.С.» — П. С. Александрова и П. С. Урысона (от ПС'а — ПС'у — шутливая надпись на оттисках работ одного, подаренных другому). Я помню выступление обоих с научными докладами по топологии в начале 22 года в маленькой аудитории «мехмата». Присутствовали В. В. Степанов и несколько студентов, которым предстояло работать в топологии и её применениях — В. А. Ефремович, В. В. Немыцкий, Л. Г. Шнирельман и другие. Начинался новый этап развития московской математики — создания на базе школы теории функций целого комплекса школ и направлений.
Доклады П. С. Урысона принадлежат к самым ярким научным впечатлениям математиков нашего поколения; они открывали новый математический мир. Читал Павел Самуилович просто и ясно, с убеждающей уверенностью в важности рассматриваемых вопросов.
Его доклады имели и большое «агитационное» значение. Проиллюстрирую это на примере его сообщения в ноябре 23 года, где мы впервые услышали о перспективах применения топологии к анализу. Павел Самуилович рассказывал о так называемой задаче Пуанкаре — о существовании трёх геодезических на поверхностях рода 0, например, выпуклых. Урысон не возвращался к этой задаче. Но Лев Генрихович Шнирельман и я, на которых доклад Павла Самуиловича произвёл сильное впечатление, неоднократно возвращались в беседах к этой задаче и впоследствии вплотную ею занялись.
Очень интересным был курс лекций по топологии, читанный Урысоном в МГУ. Записи их я видел у Льва Генриховича. От Н. Д. Нюберга я слышал о лекциях Павла Самуиловича по принципу относительности.
Прошло почти полвека со дня преждевременной кончины Урысона, срок достаточно большой, особенно при современных темпах развития науки. Время вынесло свой беспристрастный приговор о работах Урысона — они сохранили свою свежесть и актуальность, вошли в золотой фонд нашей математической классики. А его привлекательный облик остался символом молодости нашей науки.
ПРОФЕССОР М. А. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
Второе рождение
Ещё студентом 20-ти лет Павел Самуилович написал большую работу о нелинейных интегральных уравнениях. У этой работы удивительная судьба: хотя она была написана в 1918 году, но по условиям того трудного времени напечатана лишь в 1923 году. т.е. незадолго до смерти Павла Самуиловича. Тогда она осталась почти незамеченной. И вот через четверть века в связи с развитием нелинейного функционального анализа на неё обратили внимание. Воронежская школа функционального анализа стала активно развивать идеи, заложенные в этой работе, а вслед за этим теперь уже многие математики в разных концах страны продолжают исследования, начатые Павлом Самуиловичем. Так через четверть столетия она получила второе рождение!
Профессор М. А. Красносельский рассказывает об этой работе П. С. Урысона.
О РАБОТЕ П. С. УРЫСОНА, ПОСВЯЩЁННОЙ НЕЛИНЕЙНЫМ ИНТЕГРАЛЬНЫМ УРАВНЕНИЯМ
1. Сложные нелинейные задачи естествознания требуют во многих случаях исследования уравнений, имеющих заведомо несколько различных решений. При этом одно из решений (например, нулевое) обычно известно, а интерес представляют другие, неизвестные, решения.
Простейшим примером может служить классическая задача Эйлера о формах потери устойчивости сжатого стержня. При малых нагрузках P стержень находится в прямолинейном состоянии. При нагрузках бо́льших, так называемой критической нагрузки Эйлера Pкр, стержень, как говорят, теряет устойчивость. Потеря устойчивости не происходит мгновенно — при P≤Pкр стержень сохраняет прямолинейное состояние, а при бо́льших, чем Pкр, и близких к Pкр нагрузках P величина прогиба y(s; P) мала и растёт при возрастании P. Математически задача описывается нелинейным интегральным уравнением, в которое нагрузка P входит как параметр. Это уравнение имеет нулевое решение при всех P, а при P>Pкр имеет и ненулевые решения. Количество ненулевых решений определяет количество возможных форм потери устойчивости.
В качестве второго примера упомянем задачу о волнах на поверхности движущейся жидкости. При описании потока обычно выбирается некоторый характерный параметр (например, так называемое число Фруда) и выясняется, при каких значениях этого параметра возможны волны. В математической постановке здесь снова приходится изучать уравнение, которое при всех значениях параметра имеет нулевое решение. Интерес представляют те значения параметра, при которых соответствующее уравнение имеет и ненулевые решения, описывающие форму волны.
Аналогичные задачи возникают в теории фигур равновесия вращающейся жидкости, в теории нелинейных колебаний и других.
Приведённые примеры, число которых легко умножить, отличаются одной неприятной особенностью — возникающие здесь уравнения не удаётся решить в явном виде. В связи с этим решающую роль играют качественные методы исследования. Хорошо развиты такие методы для случаев, когда речь идёт о малых решениях и о мало меняющихся параметрах. Значительно скромнее результаты, относящиеся к нелокальным задачам: к задаче об отыскании и описании всего множества значений параметра, при которых существуют интересующие нас решения; к задаче о количестве таких решений, к задаче о характере зависимости решений от параметров и т.д. Выполненные здесь исследования можно буквально пересчитать по пальцам. Одним из первых была статья П. С. Урысона, написанная им ещё в 1918 году и опубликованная в 1923 году. Эта статья обобщала некоторые результаты Пикара, относящиеся к двухточечной краевой задаче для обыкновенных дифференциальных уравнений.
Работа П. С. Урысона на протяжении многих лет оставалась незамеченной. В 20–30-е годы не был ещё в достаточной мере развит язык, на котором естественно формулировать общие утверждения типа теорем Урысона. Внимание большинства математиков, занимающихся интегральными уравнениями, было поглощено построением величественного здания линейного функционального анализа, рядом с которым отдельные теоремы о специальных классах нелинейных уравнений выглядели, скажем мягко, недостаточно эффектно.
Активный интерес к общим нелинейным задачам возникает в 40–50-е годы. Сразу становится ясной важность работы П. С. Урысона. Её идеи находят различные обобщения и разнообразные приложения. Этому содействовало издание в 1951 году трудов П. С. Урысона, в которых статья по нелинейным интегральным уравнениям сопровождается интересными примечаниями.
2. П. С. Урысон рассматривает нелинейное интегральное уравнение
| b | |
| φ(x) = λ |
∫ |
K[x, s, φ(s)] ds + f (x), |
| a | |
|
(1) |
в котором φ(x) — искомая функция, и выясняет, когда можно утверждать, что это уравнение имеет положительные решения. Он даёт исчерпывающее решение задачи: если f (x) неотрицательна и K(x, s, φ) удовлетворяет некоторым простым условиям, то существует такой промежуток λ0<λ<λ∞, что при каждом λ из этого промежутка уравнение имеет единственное положительное решение y(x; λ). Это решение непрерывно зависит от λ, и имеют место равенства
| lim |
y(x; λ) = 0, |
lim |
y(x; λ) = ∞. |
| λ → λ0 |
|
λ → λ∞ |
|
Наконец, из λ1 < λ2 вытекает неравенство y(x; λ1) < y(x; λ2). Эти утверждения дают полное описание множества положительных решений уравнения.
3. Утверждения типа теоремы П. С. Урысона интересны для приведённых в первом пункте задач. Эти теоремы допускают естественное физическое истолкование.
К сожалению, указанные задачи приводят к уравнениям, отличным от (1). Поэтому возникла необходимость выделить более общие классы уравнений, для которых справедливы урысоновские теоремы. Описание таких общих уравнений удобно вести на языке функционального анализа. Попытаемся привести схему определений.
Допустим, что нас интересует задача, решения которой — функции φ(x), определённые на промежутке a≤x≤b. Для исследования этой задачи выделим некоторый класс E функций φ(x), (например, все непрерывные или все непрерывно дифференцируемые функции), в котором мы будем искать решения. В классе E обычно вводится понятие «расстояния» между двумя функциями, которое позволяет рассматривать E, как пространство, «элементами» или «точками» которого являются функции φ(x). Например, в пространстве непрерывных функций расстояние удобно определять равенством
| |
| ρ(φ, ψ) = |
max |
|φ(x) – ψ(x)|. |
| a≤x≤b | |
|
(2) |
Далее вводится понятие оператора A, ставящего в соответствие каждой функции φ(x) из E другую функцию Aφ(x) также из E. Оказывается, что многие сложные задачи могут быть записаны в виде операторных уравнений
Например, в таком виде можно записать уравнение
| b | |
| φ(x) = λ |
∫ |
K[x, s, φ(s)] ds, |
| a | |
|
(4) |
если оператор A определить равенством
| b | |
| Aφ(x) = λ |
∫ |
K[x, s, φ(s)] ds. |
| a | |
|
(5) |
Нас будут интересовать уравнения с операторами A, зависящими от параметра, то есть уравнения вида
К таким уравнениям приводятся задачи, рассмотренные в пункте 1, таким является и уравнение Урысона. (Смотрите пункт 2.)
В настоящее время развиты и энергично развиваются новые методы исследования уравнений с различными нелинейными операторами. Эти методы составляют основное содержание нелинейного функционального анализа.
Одну из важных глав нелинейного анализа составляет теория уравнений с монотонными непрерывными операторами. Значительная часть этой теории может рассматриваться как продолжение работы П. С. Урысона. В рамках этой теории нашло место и широкое развитие теоремы Урысона; наряду с принципиально новыми методами и приёмами в ней существенно используются идеи П. С. Урысона.
4. Применения общих методов функционального анализа к исследованию конкретных уравнений требуют изучения различных конкретных классов операторов. Такое изучение часто связано с преодолением значительных трудностей. Внимание многих математиков было привлечено к изучению оператора (5), который принято называть оператором Урысона; полученные при этом результаты существенно продвинули в различных направлениях теорию уравнений П. С. Урысона. Интересные результаты в этих направлениях получены Л. А. Ладыженским (Рига), И. А. Бахтиным и П. П. Забрейко (Воронеж), И. Я. Бакельманом (Ленинград), Ю. П. Красовским (Ростов-на-Дону), Г. Я. Любарским (Харьков), Я. Д. Мамедовым (Баку) и другими. Значительная часть результатов этих и других авторов отражена в монографиях М. А. Красносельского.
5. Теория уравнений с монотонными операторами ещё далека от своего завершения. В ней обнаружены интересные и часто неожиданные особенности. Вероятно, многих математиков и прикладников привлечёт эта теория. Всем им полезно и интересно ознакомиться с классическим исследованием по нелинейным интегральным уравнениям, которое выполнил П. С. Урысон на первых шагах своей короткой и яркой математической жизни.
Примечания
| 1. | Отметки выставлялись только на экзаменах в IV, VI и VIII классах. назад к тексту |
| 2. | Так в семье ласково называли Павла Сергеевича. назад к тексту |
| 3. | Немецкое математическое общество. назад к тексту |
| 4. | То есть лично за ними приедет. назад к тексту |
| 5. | Бутылкой (нем.). назад к тексту |
| 6. | За двумя бутылками (нем.). назад к тексту |
| 7. | Сообщите осторожно Лине, не говоря отцу: Поль утонул во время купанья (франц.). назад к тексту |
| 8. | Что вы хотите, чтобы я сделал с трупом? назад к тексту |
| 9. | Подробнее о научных работах П. С. Урысона см. статью В. А. Ефремовича. назад к тексту |
| 10. | Сейчас этот пруд спущен, на его месте — огород. назад к тексту |
| 11. | Таким уравнением можно задать сколь угодно сложное замкнутое множество (см. примечание 12). назад к тексту |
| 12. | Замкнутое — это множество, включающее все граничные для него точки (иначе говоря, все близкие к нему точки). назад к тексту |
| 13. | Под расстоянием xF от точки x до множества F подразумевается кратчайшее расстояние от x до точек из F. назад к тексту |
| 14. | В 1923 году Павел Самуилович получил книгу Блашке, где сообщалось, что задача Пуанкаре решена Герглоцем, и излагалась вкратце идея построения Герглоца. Потому ли, что он считал задачу решённой или ввиду занятости теорией размерности и общей теорией топологических пространств, сам Павел Самуилович более этой задачей не занимался и ничего на эту тему не опубликовал. В 1927 году решение задачи, применимое и для невыпуклых поверхностей, было дано Биркгофом. Немного позднее в работах Л. А. Люстерника и Л. Г. Шнирельмана было показано, что решение задач о трёх геодезических может быть получено в качестве частного следствия построенной ими общей глубокой теории, имеющей много других применений. назад к тексту |
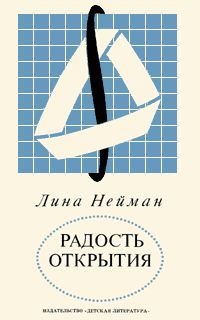
 Павел Самуилович Урысон родился в 1898 году в Одессе. Его блестящие способности проявились ещё в детские годы: учение ему давалось легко; и широкая его любознательность сказалась и в отношении естественных наук (главным образом физики и химии), и в отношении математики, а также языков и литературы. Блестяще окончив в 1915 году московскую частную гимназию, он в том же году поступил в Московский университет на физико-математический факультет, предполагая стать физиком. На его выдающиеся способности очень рано обратил внимание академик П. П. Лазарев. Под руководством П. П. Лазарева
Павел Самуилович Урысон родился в 1898 году в Одессе. Его блестящие способности проявились ещё в детские годы: учение ему давалось легко; и широкая его любознательность сказалась и в отношении естественных наук (главным образом физики и химии), и в отношении математики, а также языков и литературы. Блестяще окончив в 1915 году московскую частную гимназию, он в том же году поступил в Московский университет на физико-математический факультет, предполагая стать физиком. На его выдающиеся способности очень рано обратил внимание академик П. П. Лазарев. Под руководством П. П. Лазарева