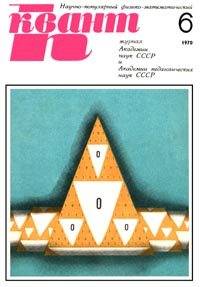

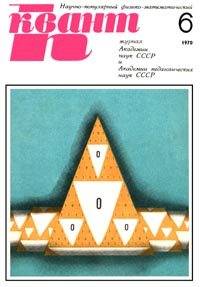 |  |
В книге «Прелюдия к математике» известного австралийского математика и популяризатора У. У. Сойера, вышедшей в 1965 году в издательстве «Просвещение», раскрывается существо математического мышления, показаны основные идеи и движущие силы математики. Автор остроумно и в занимательной форме показывает всю вздорность укоренившегося представления о математике как о скучной и формальной науке. Мы помещаем здесь сокращенный пересказ введения к этой книге. |
Почти все математические открытия имеют в основе очень простую идею. Учебники часто скрывают этот факт. Они обычно содержат громоздкие выводы и этим создают впечатление, что математики — это люди, которые всю свою жизнь просиживают за письменными столами и переводят тонны бумаги. Это чепуха. Многие математики очень успешно работают в ванной, в кровати, ожидая поезда или катаясь на велосипеде (предпочтительно при слабом уличном движении). Математические вычисления производятся до или после открытия. Само открытие возникает из основных идей.
Немногие представляют себе, как огромна сфера действия современной математики. Вероятно, было бы легче овладеть всеми существующими языками, чем всеми математическими знаниями, известными в настоящее время. Мне кажется, что все языки можно было бы выучить за одну человеческую жизнь, а всю математику, конечно, нет. К тому же объём математических знаний не остаётся неизменным. Ежегодно публикуются всё новые открытия. Например, в 1951 г. для реферативного изложения всех математических статей, вышедших за год, потребовалось 900 печатных страниц крупного формата. Только за январь упомянуто 451 название, причём реферировались статьи и книги, рассматривающие новые проблемы; лишь в немногих из них упоминались известные факты.
Человеку, желающему быть в курсе всего нового в математике, пришлось бы прочитывать ежедневно около 15 статей, весьма больших по объёму и содержащих сложные математические выкладки. Трудно даже мечтать о выполнении подобной задачи.
Открытия, которые делают математики, столь разнообразны по своему характеру, что однажды кто-то, видимо, в отчаянии предложил определить математику как «всё, чем занимаются математики». Казалось, что только такое широкое определение может охватить всё, что относится к математике. Математики решают проблемы, которые в прошлом не считались математическими, и трудно предсказать, чем ещё они будут заниматься в будущем.
Точнее было бы определение: «Математика — это классификация всех возможных задач и методов их решения». Это определение, пожалуй, тоже расплывчато, так как оно охватывало бы даже такие рубрики, как газетные объявления «Обращайтесь со всеми вашими сердечными заботами к тёте Минни», что мы никак не имеем в виду.
Для нас достаточно было бы определение: «Математика — это классификация и изучение всех возможных закономерностей». Слово «закономерность» здесь используется в таком смысле, с которым многие могут не согласиться, а именно в самом широком смысле, как название любого рода закономерностей, которые могут быть познаны умом.
Любая математическая теория должна непременно сочетать в себе мощь метода, обусловливающую возможность применений к естественным наукам, и красоту, стройность, столь привлекательную для ума. Нам кажется, что наше определение математики удовлетворяет обоим этим требованиям.
Интересно заметить, что «чистые» математики, движимые только чувством стройности к математической форме, часто приходили к выводам, которые в дальнейшем оказывались чрезвычайно важными для науки. Греки изучали свойства эллипса более чем за тысячу лет до того, как Кеплер использовал их идеи для определения траекторий планет. Математический аппарат теории относительности был создан за
Практики, как правило, не имеют представления о математике как о способе классификации всех проблем. Обычно они стремятся изучать только те разделы математики, которые уже оказались полезными для их специальности. Поэтому они совершенно беспомощны перед новыми задачами. Вот тогда-то они обращаются за помощью к математике. (Это разделение труда между инженерами и математиками, вероятно, оправдано: жизнь слишком коротка для того, чтобы одновременно изучать и абстрактную теорию и инженерное дело.) Встреча математика и инженера обычно очень забавна. Инженер. ежедневно имея дело с машинами, настолько привыкает к ним, что не может понять чувство человека, видящего машину впервые. Он забрасывает своего консультанта-математика огромным количеством подробностей, которые для того ровным счетом ничего не значат. Через некоторое время инженер приходит к выводу, что математик — абсолютный невежда и что ему нужно объяснять простейшие вещи, как ребёнку или Сократу. Но, как только математик поймёт, что делает машина и что от неё требуется, он переводит задачу на язык математических терминов. После этого он может заявить инженеру одно из трёх:
К сожалению, третий случай встречается удручающе часто. Но первый и второй случаи также довольно часты, и вот
Какими качествами должен обладать математик?
Для всех математиков характерна дерзость ума. Математик не любит, когда ему о чём-нибудь рассказывают, он сам хочет дойти до всего. Конечно, зрелый математик, узнав о каком-нибудь великом открытии, поинтересуется, в чём оно состоит, и не станет терять время на то, чтобы открывать уже открытое. Но я имею в виду юных математиков, у которых дерзость ума проявляется особенно сильно. Если вы, например, преподаёте геометрию
Хороший ученик всегда старается забежать вперёд. Если вы ему объясните, как решать квадратное уравнение дополнением до полного квадрата, он непременно захочет узнать, можно ли решить кубическое уравнение дополнением до полного куба. Остальные ученики класса не задают подобных вопросов. С них хватит и квадратных уравнений, они не ищут дополнительных трудностей.
Вот это желание исследовать является второй отличительной чертой математика. Это одна из сил, содействующих росту математика. Математик получает удовольствие от знаний, которыми уже овладел, и всегда стремится к новым знаниям.
Эту мысль можно пояснить на примере дробных показателей степени из школьного курса алгебры. Легко представить себе человека, который, поверхностно ознакомившись с дробными и отрицательными показателями степени, начнёт недоумевать, зачем все это нужно. Ведь приходится преодолевать столько логических трудностей! Мне представляется что тот, кто открыл дробные показатели степени, сначала работал над целыми показателями и получил такое большое удовлетворение от этой работы, что ему захотелось развить этот раздел, и он готов был взять на себя логический риск. Ведь на первых порах новое открытое почти всегда является вопросом веры, и лишь позднее, когда становится ясным, что это действительно открытие, приходится находить логическое оправдание, которое удовлетворит самых придирчивых критиков.
Интерес к закономерностям — третье необходимое качество математика. Уже в самом начале арифметики встречаются закономерности. Например, из четырёх камней можно сложить квадрат, а из пяти — нельзя.
Математические, как к музыкальные, способности проявляются очень рано, с четырёх лет, а иногда и раньше. Один малыш однажды сказал мне: «Мне нравится слово September (сентябрь), ведь получается sEptEmbEr». Сам я никогда не замечал закономерного чередования гласных и согласных в этом слове. Оно действительно совершенно симметрично. Такому ребёнку, конечно, понравится арифметика.
Способность к обобщению — один из самых важных факторов, определяющих математика. Чем шире круг вопросов, к которым применим какой-нибудь общий принцип, тем чаще он нам поможет выпутаться из затруднений. Пуанкаре говорил: «Предположим, я занялся сложным вычислением и с большим трудом наконец получил результат; но все мои усилия окажутся напрасными, если они не помогут предвидеть результат в других аналогичных вычислениях, если они мне не дадут возможность проводить их с уверенностью, избегая тех ошибок и заблуждений, с которыми я должен был мириться в первый раз».
После обобщения результат становится более полезным. Вас, возможно, удивит, что обобщение почти всегда также упрощает результат. Более общий вывод легче воспринять, чем менее общий. Общая теорема редко содержит что-нибудь запутанное; её цель — обратить ваше внимание на действительно важные факты.
В элементарной математике мы встречаем смесь всяких важных и неважных деталей. В высшей математике мы пытаемся разделить различные элементы и изучить каждый в отдельности. В этом смысле высшая математика, быть может, гораздо проще, чем элементарная.
Всё, о чём мы говорили выше, имело целью расширить область вопросов, подвластных математике. Исследование, открытие закономерностей, объяснение смысла каждой закономерности, изобретение новых закономерностей по образу уже известных — все эти виды деятельности расширяют область действия математики. С практической точки зрения становится исключительно трудным следить за всеми полученными результатами, и нельзя сказать, чтобы нагромождение не связанных между собой теорем представляло отрадное зрелище. Будучи и деловыми людьми и художниками одновременно, математики чувствуют потребность собрать все эти разрозненные результаты.
Не удивительно, что вся история математики состоит из чередующихся процессов «расширений» и «сокращений». Например, внимание математиков привлекает какая-нибудь задача, пишутся сотни статей, каждая из которых освещает лишь одну сторону истины. Вопрос разрастается. Затем какой-нибудь гений, опираясь на все данные, собранные с таким трудом, заявляет: «Всё, что мы знаем, становится почти очевидным, если посмотреть на это вот с такой точки зрения». После этого никому, кроме историков математики, нет уже необходимости изучать сотни отдельных статей. Разрозненные выводы объединяются в одну простую доктрину, важные факты отделяются от шелухи, и прямой путь к желаемому выводу открыт для всех. Объём сведений, которые нужно изучать, сократился. Но это ещё не конец. После того как новый метод стал всеобщим достоянием, возникают новые вопросы, для решения которых он недостаточен, и снова начинаются поиски ответов, снова публикуются статьи, снова начинается процесс «расширения».
Если бы можно было свести все знания к двум общим законам, математик не был бы удовлетворен. Он не успокоился бы до тех пор, пока не доказал бы, что оба эти закона основываются на одном принципе. Но и тогда он не был бы счастлив, наоборот, он стал бы несчастным, так как ему нечего было бы делать. Но перспектива такого застоя совершенно невероятна. Жизнь такова, что решение одной проблемы всегда создает новую проблему; иначе жизнь была бы невыносима. Всегда есть и всегда будет материал для изучения и трудности, которые нужно преодолевать.
И так будет всегда. И если бы оказалось, что вся существующая математика рассматривает только явления со свойствами A, B и C, математики немедленно спросили бы: «А что случится, если какой-нибудь предмет будет обладать только одним из этих свойств? А если ни одним из них?» И они снова погрузились бы в работу.
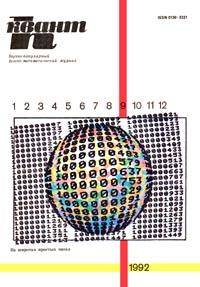 |  |
Из книги И. Яглома «Математические структуры и математическое моделирование» (М.: Советское радио, 1980). |
Хорошо известно, что весь массив наук делится на три большие группы:
или, как говорил покойный академик Л. Д. Ландау,
и эту нехитрую шутку выдающегося физика мы еще прокомментируем ниже.
Естественные науки — физика, химия, астрономия, биология, медицина... — изучают окружающий нас мир; гуманитарные — история, литература, филология, юриспруденция, социология... — человеческое общество, также представляющее собой реальность, поддающуюся наблюдениям и даже эксперименту; математика же изучает самоё себя. С этой, безусловно, самой основной точки зрения различие между математикой и «нематематикой» оказывается несравненно более глубоким, чем различие между естественными и гуманитарными дисциплинами. Более того, за последние десятилетия граница между естественными и «неестественными» науками постепенно стирается, так что про ту или иную область знания в настоящее время зачастую оказывается вовсе не просто сказать, относится ли она к кругу естественных или гуманитарных наук.
Что представляет собой сегодня, скажем, экономика? По происхождению и стоящим перед ней целям она, бесспорно, должна быть причислена к наукам гуманитарным; однако принятая здесь методика, да и сама постановка целого ряда «типичных вопросов» современной экономической науки таковы, что иногда представляется более естественным отнести эту науку к той же группе, что и физику и геологию. Напротив, психология ранее обычно рассматривалась как раздел медицины и, следовательно, как естественнонаучная дисциплина. Однако в наши дни, в связи с развитием ряда новых её областей вроде массовой психологии, социальной психологии, психолингвистики (пограничной между психологией и языкознанием), она вполне может фигурировать и в списке гуманитарных наук.
«Сращивание» естественных наук с гуманитарными стимулируется математизацией последних, использованием в них дедуктивных методов и математического моделирования, применением многих разделов математики — от элементарной алгебры до топологии. В самом деле, ранее гуманитарные науки математическим аппаратом и дедуктивными рассуждениями не пользовались, что в первую очередь, и отличало их от астрономии или физики. Заметим, кстати, что разграничение математики и гуманитарных наук в предшествующую эпоху подчеркивалось ещё и тем, что математика («доказательная») всегда пренебрегала индуктивными или чисто описательными рассуждениями, так что, скажем, появление известной книги Дж. Пойа «Математика и правдоподобные рассуждения» «истинные математики» вполне могли рассматривать как недопустимый акт, раскрывающий непосвященным «кухню» их работы, которая не должна быть доступна неспециалисту. (Я вспоминаю, с каким жаром покойный А. Я. Хинчин на своих университетских лекциях по математическому анализу убеждал студентов в том, что единственное требование к доказательству состоит в его формальной полноте; при этом математик имеет право начать рассуждение с какой-либо абсолютно немотивированной фразы типа «Рассмотрим следующую функцию...» — и на вопросы о том, откуда взялась эта функция, он отвечать не обязан.)
Ныне, однако, дело обстоит уже не так: сближение математики с гуманитарными дисциплинами привело к определённой «гуманизации» математики, к проникновению в неё подходов и точек зрения, характерных для наук гуманитарного цикла. Несколько заостряя реальную ситуацию, можно даже сказать, что для наших дней типичен не только математически мыслящий гуманитарий, но и гуманитарно мыслящий математик.
Различие между гуманитарными и естественными (или тем более математическими) науками ранее заходило столь далеко, что, например, во французском или английском языке даже сам термин «наука» (science) не принято было прилагать к таким дисциплинам, как литературоведение или история. Именно этот момент — отсутствие в гуманитарных науках дедуктивных выводов, со времен Платона и Аристотеля считавшихся единственно доказательными или «научными», так же как и некоторую расплывчатость (по сравнению, скажем, с физикой или математикой) существующих здесь критериев истинности, и акцентировал Л. Д. Ландау, когда со свойственным «настоящему учёному» (англ. scientist) высокомерием характеризовал юриспруденцию или историю как «неестественные науки».
В настоящее же время ситуация здесь изменилась весьма радикально — и математическая лингвистика (и даже математическое искусствоведение или математическое литературоведение), математическая психология или математическое правоведение, а также иные «гуманитарно-математические гибриды» (не говоря уж о математической экономике!) заняли весьма большое место в научном багаже учёных-гуманитариев, в силу чего на филологических, юридических или экономических факультетах университетов зачастую читаются весьма обширные курсы математики, заметно превосходящие по объёму курс «высшей математики», испокон веков читавшийся будущим инженерам. В связи с этими новыми тенденциями вполне можно рассчитывать, что в недалёком будущем французский термин science станет охватывать как математические и естественные, так и гуманитарные дисциплины. Возможно, что и Л. Д. Ландау, живи он сегодня, даже в шутку уже не стал бы называть соответствующие науки «естественными».
Естественные и гуманитарные науки изучают объективно существующую реальность — и единственным критерием истины, скажем, для физика является совпадение получаемых им результатов с наблюдаемыми, с прямым экспериментом; так, например, тот же Ландау на сделанный ему упрёк в нестрогости доказательства однажды ответил так: «А вы можете указать доказательство, которое лучше моего будет совпадать с экспериментом?» Таким образом, физическое рассуждение является правильным, если полученный с его помощью результат совпадает с реально наблюдаемыми фактами, и неправильным, если этот результат противоречит эксперименту. Напротив, математика строится чисто умозрительно; она не имеет дела ни с какой «лабораторией», кроме человеческой головы. Критерием истинности математического рассуждения является лишь его логическая безукоризненность, выполнение на всех этапах рассуждения устанавливаемых самим математиком правил вывода, относящихся к вполне определённой ветви математической науки — математической логике. При этом на сегодняшний день мы имеем уже вовсе не один-единственный набор правил вывода, а много разных a priori возможных таких наборов. И вполне может случиться, что математическое рассуждение, которое признает правильным один учёный, другой таковым считать откажется, причём эти две диаметрально противоположные позиции вовсе не будут означать, что один из упомянутых ученых прав, а второй ошибается: нет, правы они оба, только исходят они из разных «правил игры», что и приводит к двум разным «математикам».
В старых школьных учебниках геометрии бытовала фраза: «Справедливость аксиом подтверждается многовековым опытом человечества». Этот тезис является отражением точки зрения Аристотеля; однако с точки зрения «чистого» математика (если только существуют совсем уж «чистые» математики!) он не имеет никакого смысла. В самом деле, как может «многовековой опыт человечества» (или какие угодно другие аргументы) подтвердить или опровергнуть тот факт, что слон на шахматной доске ходит исключительно по диагонали, — ведь этот факт представляет собой условное соглашение, входящее в определение слона как шахматной фигуры, и никакой проверке его истинность не подлежит. Как может многовековой опыт человечества подтвердить или опровергнуть то, что для каждых двух точек A и B плоскости существует (и притом единственная) прямая этой плоскости, проходящая как через A, так и через B? Ведь с точки зрения современной математики под плоскостью понимается просто множество элементов
Далее, про вводимые таким образом (без всякого определения!) «точки» и «прямые» известно, что они связаны между собой рядом отношений, первым и главнейшим из которых является отношение принадлежности. При этом от связывающих точки и прямые плоскости отношений требуется выполнение ряда «правил» или «условий», одним из которых как раз и является только что сформулированная аксиома, и с точки зрения математики вопрос о доказательстве (или даже всего лишь о достаточно надежной мотивации) истинности этого утверждения столь же бессодержателен, как и вопрос о «доказательстве» правил движения слона на шахматной доске.
Выше мы сказали, что понятия «точки» и «прямой» плоскости вводятся без всякого определения, и даже подчеркнули эту мысль как чрезвычайно важную восклицательным знаком в конце соответствующего утверждения. Однако теперь мы, пожалуй, возьмёмся оспаривать наш собственный тезис. Имеет или не имеет определения понятие «шахматный слон»? Ответ на этот вопрос, по существу, был дан выше. Разумеется, для лица, не умеющего играть в шахматы, понятие это совершенно бессмысленно — ничем не лучше, чем для нас с вами понятие «тарарабумбия», пока этот странный, явно антинаучный термин никак нами не определён. Но для шахматиста понятие «слон» совершенно ясно: под шахматным слоном он понимает фигуру, в начальной позиции занимающую на шахматной доске положения c1 и f1 («белые слоны») и c8 и f8 («чёрные слоны»), причём в процессе игры эти фигуры могут перемещаться, а также исчезать с доски («слон побит») или возникать на ней (пешка «прошла в слоны») в соответствии с вполне определёнными правилами, полный набор которых может рассматриваться как косвенное определение соответствующего понятия. Другими словами, само по себе понятие «шахматный слон» следует считать бессодержательным, неопределённым; однако сочетание слов «игра в шахматы» имеет чётко очерченный, хоть и достаточно сложный смысл, — и вот в рамках
Но точно так же обстоит дело и с понятиями (математических) точки и прямой! Для незнакомого с математикой (а точнее — с планиметрией) лица эти понятия, разумеется, совершенно бессодержательны. Однако уже школьник знает, что планиметрия в целом может быть описана как совокупность элементов двух родов: точек A, B,
Таким образом, понятие (математической) точки само по себе вне рамок планиметрии никакому определению не подлежит: точка, как и пресловутый поручик Киже, «фигуры не имеет», так что не склонный задумываться над происхождением математических понятий «чистый» математик, пожалуй, сочтёт, что знакомое каждому общежитейское понятие точки как мельчайшей («неделимой») области физического пространства или как следа однократного касания бумаги карандашом или иным заостренным пишущим предметом имеет к понятию математической точки не больше отношения, чем индийский или африканский слон — к шахматному. Таким образом, наблюдаемое органами чувств и регистрируемое приборами физическое пространство не связано с абстрактно-математическим пространством, формально описываемым относящимся к нему набором аксиом. Более того, эти два «пространства» относятся даже к совсем разным кругам понятий — к области математических наук и к области естественных наук, или, используя терминологию Платона, — к «миру видимому» и к «миру умопостигаемому».
Однако подобное рассуждение оставляет у нас смутное чувство неудовлетворённости, сознание, что мы говорим что-то не совсем то... Вспомним глубокие знания по геометрии древних вавилонян или египтян — знания, включающие столь содержательные факты, как теорема Пифагора или формула для объёма усечённой пирамиды. Но ведь
Странный мир геометрии — всё в нём предельно конкретно, наглядно, осязаемо, и в то же время призрачно, бестелесно, условно. Формула для объёма цилиндра точно оценивает количество воды, которое можно налить в стакан или бидон, — но ведь на самом деле слова «цилиндр», «конус», «прямая», «плоскость» обозначают некие абстракции, нигде в жизни не встречающиеся и не реализуемые. Представление о плоскости может дать, скажем, хорошо отшлифованная металлическая пластина, — но не о плоскости, конечно, а лишь о небольшом её участке, ибо всю (безграничную!) плоскость даже и пытаться представить себе нельзя, так как попытка «далеко» продолжить в воображении видимую поверхность пластины сразу же поставит перед нами немыслимо сложные вопросы о глобальном строении вселенной. Но и маленькую часть плоскости наша пластина представляет весьма приближённо — ведь если мы захотим отшлифовать её до «полной» гладкости, то неизбежно придём в противоречие с атомным строением вещества, и это ещё до того, как перед нами встанет вопрос о природе самих образующих пластину атомов, столь далёких от привычной нам геометрии, что уж на
Таким образом, мы явно имеем две совсем разные «геометрии». «Геометрия-физика» является одной из естественнонаучных дисциплин и изучает специфические свойства реальных тел, в первую очередь, их размеры и форму, в то время как «геометрия-математика» относится к кругу математических наук и изучает определённые математические структуры, во всей («идеальной») полноте в практической жизни не реализуемые (т.е. не существующие). При этом возникла «геометрия-физика» раньше «геометрии-математики» (чем снимается всякая загадочность с факта появления геометрии до математики); однако с самого зарождения «геометрии-математики» развивались наши две геометрии в постоянной и неразрывной связи. К логической системе «геометрии-математики» учёные первоначально пришли путём идеализации свойств реальных тел, предельного упрощения наблюдаемых в окружающем мире явлений, сохранения лишь самых фундаментальных (т.е. самых простых и глубоких) из относящихся к ним фактов; эти «главные» факты компактно записывались в виде списка аксиом, возникших в результате суммирования данных многократных экспериментов, производимых над поверхностями пластин и плит (эти поверхности получили общее наименование «плоскостей»), над лучами света и краями этих плит (называемых «прямыми») и т.д. С другой стороны, делаемые уже чисто логическим путём выводы о свойствах абстрактных объектов, рассматриваемых в «геометрии-математике», немедленно (и успешно) применялись к изучению свойств материальных тел, изучением которых занималась «геометрия-физика». Иногда, правда, возникало несоответствие между математическими выводами и физическими наблюдениями, как это произошло, скажем, при анализе результатов опытов Майкельсона по измерению скорости света; но такое несоответствие лишь приводило к необходимой модификации «математического пространства», к построению новых абстрактных схем, с большей полнотой, чем прежние, охватывающих феномены действительного.
Таким образом, взаимоотношения «геометрии-физики» и «геометрии-математики» имитируют общий процесс развития точного знания, неизбежно проходящий через этапы индуктивного накопления фактов («геометрия-физика»); последующего их обобщения и построения на базе этих фактов дедуктивной теории («геометрия-математика»), из которой, в свою очередь, делаются выводы, касающиеся реальной действительности; опытной проверки полученных выводов (снова «геометрия-физика»); перестройки и модификации теории в свете вновь полученных фактов (опять «геометрия-математика»), — и так без конца. Другими словами, «геометрия-математика» возникла как математическая модель физической вселенной, причём практическая ценность этой модели первоначально связывалась исключительно лишь с возможностью делать на её базе выводы, касающиеся реального (физического) мира. После этого и «геометрию-физику» стало возможно рассматривать как физическую модель абстрактного (математического) пространства, описываемого в соответствии с общей схемой построения «выводных наук» Аристотеля, т.е. списком основных (неопределяемых) объектов и отношений и набором аксиом, характеризующих эти объекты и отношения. Именно такой подход к геометрии обусловил единодушие, с которым творцы неевклидовой геометрии — К. Ф. Гаусс и Н. И. Лобачевский, не ведая в этот момент о близости сделанных ими открытий, бросились измерять сумму углов «физических» треугольников (вершинами которых служили три удалённые друг от друга точки земной поверхности у Гаусса и три небесных тела у Лобачевского). Разумеется, результат этих измерений не мог иметь никакого отношения к вопросу об истинности или ложности геометрии Лобачевского как математической теории, но он мог указать на наличие физической её модели, полностью оправдывающей само существование этой теории, возможно даже делающей её необходимой.
Двусторонняя связь наук математических (в данном случае — «геометрии-математики») с науками естественными («геометрией-физикой») указывает то место, которое занимает математика в системе наук и в жизни людей.
Сила математики в первую очередь заключается в том, что возникшие в её рамках числовые системы и формальные схемы доставляют нам некоторый «универсальный ключ», годный для отпирания всех на свете замков: они равно приложимы к физике и биологии, технике и социологии, астрономии и лингвистике. Математическая модель реальной ситуации — это математическая структура, объекты которой трактуются как идеализированные реальные «вещи» (или понятия), а абстрактные отношения между этими объектами — как конкретные связи между элементами действительности; такая модель позволяет составить компактную и легко обозримую сводку известных нам свойств изучаемых понятий, дающую возможность исчерпывающе их анализировать и даже предсказывать результаты будущих наблюдений, а ведь именно оправдывающиеся впоследствии предсказания составляют основной предмет гордости каждой науки, определяют её ценность. Эта универсальность математического знания дала основание выдающемуся физику Юджину Вигнеру с некоторым даже недоумением говорить о «непостижимой приложимости математики к естественным наукам»; её же имел в виду и Ландау, когда он называл математические науки «сверхъестественными».
| * | Давид Гильберт (1862–1943) как-то заметил, что содержание евклидовой геометрии не претерпит никаких изменений, если мы заменим слова «точка», «прямая» и «плоскость», скажем, терминами «стул», «стол» и «пивная кружка» (из самой формы этого высказывания видно, что оно родилось в процессе обсуждения проблем математики за столиком гёттингенской пивной). Впрочем, здесь Гильберта частично обогнал Жан Лерон Даламбер |