
SYMMETRIES
AND
REFLECTIONS
Scientific Essays of
EUGENE P. WIGNER
ЭТЮДЫ О СИММЕТРИИ
Перевод с английского
Ю. А. ДАНИЛОВА
Под редакцией
Я. А. СМОРОДИНСКОГО
BLOOMINGTON – LONDON
1970
Москва
1971
 SYMMETRIES AND REFLECTIONS Scientific Essays of EUGENE P. WIGNER |
ЭТЮДЫ О СИММЕТРИИ Перевод с английского Ю. А. ДАНИЛОВА Под редакцией Я. А. СМОРОДИНСКОГО |
|
| INDIANA UNIVERSITY PRESS BLOOMINGTON – LONDON 1970 |
ИЗДАТЕЛЬСТВО «МИР» Москва 1971 |
|
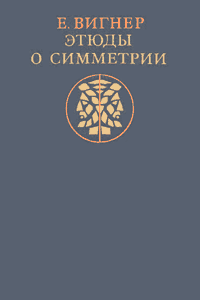 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРЕДЕЛЫ НАУКИ
Опубликовано в журнале:Выступить на столь общую тему меня побудила не обычная гордость учёного, чувствующего себя в силах внести вклад, пусть даже небольшой, в решение проблемы, интересующей не только его самого, но и его коллег. К спекуляции подобного рода все мы испытываем большое внутреннее сопротивление: она имеет много общего с хладнокровным рассуждением о кончине очень близкого нам человека. Именно такое чувство вызывают у нас, учёных, рассуждения о будущем самой науки, о том, не постигнет ли её когда-нибудь, в достаточно отдалённые времена, судьба, выраженная в изречении: «Всё нарождающееся обречено на гибель». В рассуждениях на столь деликатную тему принято исходить из предположения об оптимальных условиях для развития интересующего нас предмета и не считаться с опасностью того, что может произойти
Самое замечательное в Науке — её молодость. Первые зачатки химии (в современном понимании этой науки) появились не ранее трактата Бойля «Скептический Химик», вышедшего в свет в 1661 г. Может быть, рождение химии с бо́льшим основанием следовало бы отнести к периоду деятельности Лавуазье,
Заметно увеличивается число людей, посвящающих многие годы своей жизни приобретению знаний. Так, около 10% американской молодежи оканчивает колледжи, причем в последнее время каждые 20 лет эта цифра удваивается. Гарвардский колледж был основан в 1636 г. и в то время явно не был научным учреждением. Американской Ассоциации поощрения наук исполнилось 100 лет; первоначально она насчитывала лишь 461 члена. Ныне число её членов превышает полмиллиона, и лишь за последнее полугодие оно увеличилось почти на 10 000 человек. В некоторых других странах увеличение численности студенческой аудитории менее заметно, но в России оно происходит ещё более быстрыми темпами, чем в Америке.
Человек всё больше осваивает Землю, и этот процесс непосредственно связан с расширением его знаний о законах природы. В течение 99 700 лет своей истории человек не оказывал сколько-нибудь заметного воздействия на поверхность Земли, но с появлением науки он успел вырубить леса на обширных территориях и истощить природные запасы некоторых минералов. Наблюдая в мощный телескоп Землю с Луны, вряд ли можно было бы заметить присутствие человека в течение первых 99 700 лет его истории, но игнорировать населенность Земли в течение последних 300 лет было бы трудно. В природе не существует явления, которое мы могли бы сравнить с внезапным развитием науки, не подчиняющимся
В самом деле, наблюдая за быстрым ростом науки и увеличением мощи человека, невольно начинаешь опасаться худшего. Человек явно не в силах соразмерить свой умственный кругозор с той ответственностью, которую возлагает на него его собственная, всё возрастающая мощь. Именно это несоответствие и заставляет опасаться катастрофы. Высказанная только что мысль осознана ныне настолько глубоко (в особенности в связи с созданием и совершенствованием различных видов атомного оружия и последующими неудачными попытками разрешить возникшие с его развитием проблемы или хотя бы до конца разобраться в них), что стала почти банальной. Тем не менее, говоря о будущем науки, мы не будем принимать во внимание возможность катастрофы, а пределы роста науки будем рассматривать в предположении, что её развитие не будет прервано
Что следует понимать под естественным пределом «нашей науки», вероятно, станет особенно ясным, если мы попытаемся определить смысл выражения «наша наука». Наша наука — это весь запас наших знаний о явлениях природы. Возникает вопрос: что же «нашего» есть в таком запасе? Ответ на поставленный вопрос мы будем искать методом последовательных приближений, вводя то слишком широкие, то слишком узкие определения до тех пор, пока не придём к приемлемому компромиссу. Ясно, что любой набор фолиантов, содержащих накопленные факты и теории, не становится хранилищем наших знаний лишь оттого, что принадлежит нам. Пример эпохи Возрождения и в ещё большей степени предшествовавшего ей мрачного средневековья учит нас, что одного лишь владения правом собственности на книги недостаточно. Необходимо ли, чтобы
Я считаю, что некий запас знаний разумно назвать «нашей наукой» в том случае, если найдутся люди, способные выучить и использовать любую часть их, люди, которые бы жаждали овладеть каждой частью, даже сознавая, что это выше их сил, при условии, если есть достаточная уверенность, что отдельные части свода знаний не противоречат друг другу, а образуют единое целое. Раздел наших знаний, изучающий упругость, должен исходить из тех же представлений о структуре железа, что и раздел, занимающийся изучением магнетизма.
Если предложенная выше формулировка приемлема в качестве более или менее точного описания того, что можно понимать под «нашей наукой», то ограничения нашей науки кроятся в человеческом интеллекте, в объёме его интересов, способности к обучению, памяти, общению с себе подобными. Ясно, что все эти ограничения связаны с конечной протяжённостью человеческой жизни. Действительно, если принять приведённое выше определение «нашей науки», то её содержание будет меняться не только в результате завоевания новых областей, но отчасти и вследствие перемещения из более старых областей в новые. Некоторые вещи мы забываем и концентрируем своё внимание на последних достижениях. Именно сейчас более старые области науки перестают быть областями «нашей науки» не столько потому, что у нас нет уверенности в их соответствии новой картине мира (наоборот, я убеждён в том, что они отлично вписываются в новую картину), сколько потому, что ни у кого нет особо сильного желания знать их — по крайней мере ни у кого из тех, кто интересуется новыми областями науки.
Возможности такого типа роста ещё далеко не исчерпаны. Сегодня мы не столь охотно занимаемся теорией твёрдого тела, в которой студент должен прочитать около 600 статей, прежде чем достигнет «переднего края» и сможет вести своё собственное исследование. Вместо этого мы сосредотачиваем усилия на квантовой электродинамике, где изучающий должен ознакомиться лишь с 6 работами. Завтра мы можем забросить целые науки, например химию, и заняться
Тем не менее следует отдавать себе отчёт в том, что поглощение старого предмета новой дисциплиной до некоторой степени иллюзорно. Например, студент, изучающий квантовую электродинамику, по существу не касается теории твёрдого тела, так как человеческий разум слишком слаб, чтобы вывести важные свойства твёрдых тел из квантовой электродинамики, если мы не предпримем специальных, экспериментальных и теоретических, исследований и не разовьём идеализаций и приближений, пригодных именно для описания твёрдых тел. Только необычайно проницательный интеллект, опираясь на принципы обычной квантовой теории, мог бы заключить, что существуют твёрдые тела и что они состоят из атомов, расположенных в пространстве в виде правильных решеток. В то же время человеческий разум сразу же осознал бы всё значение и роль дефектов кристаллических решеток. Уравнения квантовой теории можно уподобить прорицанию оракула, описывающего в удивительно сжатом виде явления кристаллофизики. Однако человеческий разум не в силах понять, о чём вещает оракул, если прорицания не снабжены комментариями. Объём комментариев находится в таком же отношении к сжатым изречениям оракула, как вся библия — к стиху из книги Левит. Очевидно, существует предел, выше которого сжатость изложения, сколь бы возвышенной она ни была, как самоцель перестаёт быть полезной для хранения информации. В наши дни эта степень конденсации сведений в физике уже достигла своего предела.
Возникает вопрос: будет ли развитие науки (хотя бы потенциально) неограниченно долго происходить по типу сдвига, т.е. когда новая дисциплина оказывается глубже старой и включает последнюю в себя, по крайней мере, «виртуально»? Мне кажется, что на этот вопрос следует дать отрицательный ответ, потому что сдвиги, понимаемые в указанном только что смысле, всегда связаны с углублением ещё на один слой в «тайны природы» и с ещё большим удлинением цепочки понятий, опирающихся на более ранние понятия. Отсюда виден приближённый характер научных понятий. Так, в приведённом выше примере классической механике сначала пришлось уступить место квантовой механике (выяснилось, что классическая механика справедлива в определённом приближении и пригодна лишь для описания макроскопических явлений). Затем стало ясно, что классическая механика неадекватна и в другом отношении, и её заменили полевыми теориями. Наконец, обнаружилось, что и «заменители» классической механики используют лишь приближённые понятия и пригодны лишь при небольших скоростях. Таким образом, релятивистская квантовая теория расположена по крайней мере в четвёртом по глубине слое и оперирует понятиями всех трёх предшествующих слоев, известных своей неадекватностью и заменённых на четвёртой ступени познания более глубокими понятиями. Разумеется, в этом и состоит очарование и прелесть релятивистской квантовой теории и вообще всякого фундаментального исследования по физике, но в этом же проявляется и ограниченность рассматриваемого нами типа развития науки. Признание неадекватности понятий десятого слоя и замена их более тонкими понятиями одиннадцатого слоя будет гораздо менее важным событием, чем открытие теории относительности, но для того, чтобы найти корень зла, нам придётся провести более трудоёмкие и продолжительные исследования, чем некогда понадобившиеся для оценки тех противоречий с опытом, которые исключала теория относительности. Нетрудно представить себе, что наступит и такое время, когда изучающий физику утратит интерес или будет попросту не в силах пробиваться сквозь уже накопившиеся слои к переднему фронту науки, к самостоятельному исследованию. Тогда число аспирантов-физиков резко упадёт и прорыв науки в новые области станет заметнее, чем привычные нам сдвиги: новая дисциплина уже не будет включать в себя физику так, как, например, квантовая теория включает классическую физику. Этот тип сдвига я называю сдвигом второго рода.
В нарисованной мной картине предполагается, что для понимания всё расширяющегося круга явлений в физику необходимо вводить всё более и более глубокие понятия, и этот процесс не завершается открытием окончательных, абсолютных понятий. Я убеждён, что такое допущение верно: у нас нет никаких оснований ожидать, что наш интеллект может сформулировать некие абсолютные понятия, пригодные для полного описания неодушевлённой природы. Сдвиг второго рода будет происходить в любом случае: наука не жизнеспособна, если на границе неведомого не ведётся исследование и интерес к законченному предмету быстро падает. Возможно также, что ни одна из альтернатив не соответствует действительности и что нам никогда не удастся решить, адекватны ли «в принципе» понятия десятого слоя, пригодны ли они для полного описания неодушевлённого мира. Отсутствие интереса в сочетании со слабостью человеческого разума может легко привести к тому, что решение вопроса о полной адекватности понятий
Сдвиг второго рода будет означать не только отказ от той или иной области знания. Многие сегодня начинают ощущать, что мы слишком долго пренебрегали биологическими науками и науками о разуме человека и животных. Наша картина мира, несомненно, была бы более полной, если бы мы располагали более подробными сведениями о разуме людей и животных, их нравах и привычках. Однако сдвиг второго рода может означать и признание того факта, что мы неспособны полностью понять даже неодушевлённый мир (несколько веков назад человек пришёл к аналогичному выводу о своей неспособности с достаточной уверенностью предсказывать то, что произойдёт с его душой после смерти его тела). Ныне мы также испытываем некое разочарование, так как не можем предвидеть все перипетии в судьбе нашей души. Хотя об этом не принято говорить вслух, мы все знаем, что с общечеловеческой точки зрения цели нашей науки намного скромнее, чем цели, например, древнегреческой науки, и что наша наука с большим успехом увеличивает нашу мощь, чем наделяет нас знаниями, представляющими чисто человеческий интерес. Тем не менее последующее разочарование отнюдь не уменьшает той энергии, с которой происходит развитие естественных наук. Не менее интенсивной будет и работа в тех областях, в которые нас приведут сдвиги второго рода, хотя нам и приходится отказаться от полного осуществления наших мечтаний, связанных с прежним полем деятельности.
Всё же нельзя умолчать и о том, что сдвиг второго рода будет означать некую новую утрату для науки и знаменовать поворотный момент в её развитии (говоря о науке, мы понимаем её в смысле данного нами определения). Когда число сдвигов второго рода станет значительным, наука утратит ту привлекательность для молодого ума, которой она обладает сейчас, и станет
Многие из нас склонны считать изложенные выше рассуждения не слишком вескими, надеясь, что наука в силу свойственной ей природной жизнеспособности сумеет преодолеть все преграды, которые, как ныне кажется нашему слабому и жалкому разуму, стоят на её пути. Такое мнение, несомненно, содержит изрядную долю истины. Оно основано на некоторой гибкой картине развития науки, и мы вскоре займёмся её рассмотрением более подробно. Однако я считаю, что более мрачная картина в принципе верна, и наше инстинктивное нежелание верить в неё связано со способностью человеческого разума не думать о неприятных событиях, которые могут произойти в будущем, если дата их наступления заранее не предсказуема. Всё же значительные и нередко весьма нежелательные перемены происходят, и гибкость природы лишь несколько задерживает их наступление: бизоны как источник пищи вымерли, роль отдельных воинов свелась к нулю, подробное толкование текстов священного писания, некогда считавшееся единственно достойным занятием для людей, перестало быть элементом нашей культуры. Предсказания всех этих событий некогда вызывали негодование у больших групп людей, так же как вызывает у нас негодование и сопротивление брошенное
Можно ли уже сегодня усмотреть какие-либо признаки кризиса в науке?
Наиболее отчётливо всё возрастающее понимание того, что ограниченная ёмкость нашего разума устанавливает пределы в сфере науки, проявляется в вопросах, которые нам приходится слышать ежедневно: «Стоит ли проводить то или иное исследование?» Почти во всех таких случаях поставленная задача интересна, предложенный метод её решения не лишён остроумия, а ответ задачи, каким бы он ни был, сто́ит того, чтобы его запомнить. Однако тот, кто сомневается в целесообразности проведения исследования, отлично сознаёт, как велико число не менее важных задач и как ограничены время и память тех, кому будут интересны результаты, и он беспокоится, не затеряется ли намечаемая им работа в массе других публикаций и найдётся ли у
Недавно Фирц в весьма глубокой статье указал на одно обстоятельство, которое со временем вполне может стать причиной сдвига первого рода. Он обратил внимание на то, что и физика и психология претендуют на роль всеохватывающих, универсальных дисциплин: первая — потому, что она стремится описать всю природу, вторая — потому, что рассматривает все явления, связанные с духовной деятельностью, а природу считает существующей для нас лишь постольку, поскольку мы познаём её. Фирц заметил, что картины мира, проектируемые в нашем сознании физикой и психологией, не обязательно должны быть противоречивыми. Однако чрезвычайно трудно, а может быть, даже и невозможно воспринимать эти две картины как различные аспекты одного и того же предмета. Более того, вряд ли будет преувеличением, если мы скажем, что ни один психолог не понимает философии современной физики. Верно и обратное утверждение: лишь редкий физик понимает язык психолога. Разумеется, философия психологии ещё слишком туманна, чтобы мы могли прийти к каким-нибудь определённым выводам, однако вполне возможно, что мы сами или наши студенты станем свидетелями «раздела» науки именно здесь, в области, где физика и психология перекрываются.
Было бы глупо делать далеко идущие выводы из возникновения двух наук, каждая из которых претендует на универсальный охват действительности, тем более что в настоящее время мы не усматриваем ничего общего между используемыми в этих науках понятиями и утверждениями. Не переоценивая способности нашего разума к абстрагированию, мы всё же можем объединить физику и психологию в одну более глубокую дисциплину. К тому же существует много благоприятствующих нам стабилизирующих эффектов, позволяющих надолго отложить раздел науки на обособленные области. Некоторые из этих эффектов имеют методологический характер: чем глубже мы понимаем открытия, тем лучше можем объяснить их. Не случайно, что у нас до недавнего времени было много превосходнейших книг по термодинамике и почти ни одной — по квантовой теории. Двадцать пять лет назад теорию относительности (по крайней мере так говорилось) понимали лишь два человека, сегодня её основам мы обучаем студентов. Другие примеры усовершенствования методики преподавания как за счёт небольших упрощений, так и введения наглядных «ёмких» понятий и обобщений слишком очевидны, чтобы нам стоило их перечислять.
Другой важный стабилизирующий эффект достигается уменьшением объёма изучаемой дисциплины за счёт исключения отдельных её частей. Людей моего возраста,
Наконец, не исключено, что со временем нам удастся воспитать человека, чья память и способность к абстрагированию будут превосходить наши возможности, или, по крайней мере, мы научимся рационально выбирать молодых людей, наиболее пригодных к научной работе.
С другой стороны, не следует упускать из виду одно обстоятельство, которое, несомненно, будет оказывать противоположный эффект. Жажда знания, любопытство, потребность испробовать собственные умственные способности и здоровый дух соперничества в наши дни в значительной мере стимулируют деятельность молодого учёного и послужат побудительными мотивами в будущем. Однако эти мотивы не единственны: жажда облегчить участь человечества, умножить его силы — столь же традиционные черты учёных, но они (если говорить о естественных науках) ослабевают по мере того, как человек всё более полно подчиняет себе стихии и сознаёт, что экономическое благосостояние определяется не столько производством, сколько организацией. Утрата учёными столь привлекательных качеств, несомненно, скажется, и масштаб её невозможно предвидеть заранее.
Если наука (и по ширине охвата предмета и по глубине) разрастётся так сильно, что человеческий разум будет не в силах объять её и человеческой жизни не хватит для того, чтобы добраться до границы известного, не могли бы несколько людей объединиться в группу и совместными усилиями добиться того, чего нельзя добиться в одиночку? Нельзя ли, вместо того чтобы, следуя Шоу, возвращаться к Мафусаилу, изыскать новый способ увеличения ёмкости человеческого разума — путем наложения нескольких индивидуальных разумов, а не «растяжения» одного отдельного разума? Эта возможность исследована настолько мало, что любые утверждения относительно неё носят чисто умозрительный характер (насколько я могу судить, более умозрительный, чем остальная часть этой статьи). Вместе с тем возможности совместных исследований следовало бы изучить намного шире, чем это делалось до сих пор, потому что в них мы видим единственную надежду продления жизни науки после того, как объём науки станет слишком большим для отдельного индивидуума.
Большинство из нас, учёных, слишком индивидуалистично для того, чтобы принимать всерьёз коллективные исследования. Как заметил однажды основатель теории относительности, он не представляет себе, каким образом теорию относительности можно было бы создать коллективно. Действительно, если мы вспомним о современных исследовательских коллективах, работающих под руководством одного человека, передающего свои распоряжения через начальников отделов, то идея совместных исследований становится до смешного абсурдной. Ясно, что при таком подходе в нашем мышлении не может произойти глубоких перемен, и те исследовательские коллективы, о которых мы упомянули, также неспособны изменить наше мышление.
Доводы против коллективного исследования можно более рационально обосновать, если воспользоваться тонким анализом природы математического открытия, проведённым Пуанкаре. Именно наше интуитивное понимание фактов, столь удачно выраженных Пуанкаре и Адамаром, заставляет нас улыбаться при мысли о коллективном исследовании. Пуанкаре и Адамар выяснили, что в отличие от большинства процессов мышления, протекающих в высших слоях сознания, наиболее существенная часть математического мышления происходит без слов. Оно протекает
Я считаю, что роль подсознательного мышления не менее важна и в других науках и имеет решающее значение даже при решении мелких технических проблем, кажущихся почти тривиальными. Один мой друг, физик-экспериментатор, рассказывал мне (это было лет двадцать назад), что когда он не мог найти течь в своей вакуумной системе, то обычно отправлялся погулять. Очень часто, вернувшись с прогулки, он точно знал, где следует искать течь. Следовательно, проблема коллективного исследования состоит в том, чтобы полностью освободить изобретательность подсознания индивидуума и в то же время предоставить в его распоряжение весь запас знаний, которым располагает коллектив.
Возможно ли сделать это и каким именно способом — в настоящее время неизвестно. Можно лишь с уверенностью утверждать, что коллективные исследования потребуют более тесного, чем до сих пор, симбиоза между отдельными участниками. Частью, но только частью, этого более тесного симбиоза будет возросшая по сравнению с достигнутым ныне уровнем лёгкость обмена идеями и информацией. Для полной эффективности коллективных исследований необходимо достичь более глубокого понимания деятельности человеческого мозга. Ни одно из названных условий не является невозможным. Более того, не исключено, что в действительности мы находимся ближе к их осуществлению, чем подозреваем.
Пока же мы не должны забывать о двух фактах.
Каждому учёному и каждому человеку тяжело сознавать, что главный побудительный мотив его деятельности или его эпохи обречён на гибель. Однако цели и идеалы человечества на протяжении известного нам периода истории неоднократно менялись. Кроме того, мы должны испытывать чувство гордости при мысли о том, что живём в героический век науки, в эпоху, когда абстрактные знания индивидуума о природе и (как мы надеемся) о себе самом возрастают быстрее и до более высокого уровня, чем
|
Роль математики в физических теориях Так ли уж удивителен успех физических теорий? |
«...по-видимому, здесь есть Ч. С. Пирс |
Рассказывают такую историю. Встретились
— Откуда тебе известно, что всё обстоит именно так, а не иначе? — спросил он. — А это что за символ?
— Ах, это, — ответил статистик. — Это число π.
— А что оно означает?
— Отношение длины окружности к её диаметру.
— Ну, знаешь, говори, да не заговаривайся, — обиделся приятель статистика. — Какое отношение имеет численность народонаселения к длине окружности?
Наивность восприятия друга нашего статистика вызывает у нас улыбку. Тем не менее, когда я слушал эту историю, меня не покидало смутное беспокойство, ибо реакция приятеля была не чем иным, как проявлением здравого смысла. Ещё большее замешательство я испытал через несколько дней, когда один из моих студентов выразил удивление по поводу того, что для проверки своих теорий мы отбираем лишь крайне незначительное число данных 1.
«Представим себе, — сказал студент, — что мы хотим создать теорию, пригодную для описания явлений, которыми мы до сих пор пренебрегали, и непригодную для описания явлений, которые казались нам имеющими первостепенное значение. Можем ли мы заранее утверждать, что построить такую теорию, имеющую мало общего с существующей ныне, но тем не менее позволяющую объяснять столь же широкий круг явлений, нельзя?» Я вынужден был признать, что особенно убедительных доводов, исключающих возможность существования такой теории, нет.
Две рассказанные истории служат иллюстрациями двух главных тем моего доклада. Первой — о том, что между математическими понятиями подчас возникают совершенно неожиданные связи и что именно эти связи позволяют нам удивительно точно и адекватно описывать различные явления природы. Второй — о том, что в силу последнего обстоятельства (поскольку мы не понимаем причин, делающих математические понятия столь эффективными) мы не можем утверждать, является ли теория, сформулированная на языке этих понятий, единственно возможной. Мы находимся в положении, несколько аналогичном положению человека, держащего в руках связку ключей и пытающегося открыть одну за другой несколько дверей. Рано или поздно ему всегда удаётся подобрать ключ к очередной двери, но сомнения относительно взаимно однозначного соответствия между ключами и дверями у него остаются.
Бо́льшая часть того, что будет здесь сказано, не отличается новизной; в той или иной форме аналогичные идеи,
Кто-то сказал, что философия — это злоупотребление специально разработанной терминологией 2. Следуя духу этого высказывания, я мог бы определить математику как науку о хитроумных операциях, производимых по специально разработанным правилам над специально придуманными понятиями. Особенно важная роль при этом, разумеется, отводится придумыванию новых понятий. Запас интересных теорем в математике быстро иссяк бы, если бы их приходилось формулировать лишь с помощью тех понятий, которые содержатся в формулировках аксиом. Но это ещё не всё. Понятия элементарной математики, и в частности элементарной геометрии, были, бесспорно, сформулированы для описания объектов, заимствованных непосредственно из реального мира. Аналогичное утверждение относительно более сложных математических понятий, в том числе понятий, играющих важную роль в физике,
Особенно яркой иллюстрацией сказанного служат комплексные числа. Ничто в имеющемся у нас опыте, очевидно, не наводит на мысль о введении этих величин. Если же мы спросим у математика о причинах его интереса к комплексным числам, то он с негодованием укажет на многочисленные изящные теоремы в теории уравнений, степенных рядов и аналитических функций в целом, обязанных своим появлением на свет введению комплексных чисел. Математик отнюдь не склонен отказываться от наиболее прекрасных творений своего гения 4.
Физик видит свою задачу в открытии законов неодушевлённой природы. Чтобы смысл этого утверждения стал ясным, необходимо проанализировать понятие «закон природы».
Окружающий нас мир поразительно сложен, и самая очевидная истина заключается в том, что мы не в состоянии предсказать его будущее. В известном анекдоте лишь оптимист считает будущее неопределённым, тем не менее в данном случае оптимист прав: будущее непредсказуемо. Как заметил однажды Шрёдингер, «чудо, что, несмотря на поразительную сложность мира, мы можем обнаруживать в его явлениях определённые закономерности» 5.
Одна из таких закономерностей, открытая Галилеем, состоит в том, что два камня, брошенные в один и тот же момент времени с одной и той же высоты, упадут на землю одновременно. Именно о таких закономерностях и идет речь в законах природы. Галилеева закономерность стала прототипом широкого класса закономерностей. Удивительной же её следует считать по двум причинам.
Во-первых, удивительно, что эта закономерность наблюдается не только в Пизе и не только во времена Галилея, но и в любом другом месте земного шара; она была и будет верной всегда. Это свойство закономерности есть не что иное, как известное свойство инвариантности. Некоторое время назад [7] я уже имел случай заметить, что без принципов инвариантности, аналогичных тем, которые вытекают из приведённого выше обобщения замеченного Галилеем опытного факта, физика не могла бы существовать.
Вторая удивительная особенность закономерности, открытой Галилеем, состоит в том, что она не зависит от многих условий, от которых в принципе могла бы зависеть. Закономерность наблюдается безотносительно к тому, идёт ли дождь или нет, проводится ли эксперимент в закрытой комнате или камень бросают с Пизанской падающей башни и кто бросает камень — мужчина или женщина. Закономерность остаётся верной, если двое разных людей одновременно бросают с одинаковой высоты два камня. Существует, очевидно, бесчисленное множество других условий, не существенных для выполнимости открытой Галилеем закономерности. Несущественность столь многих обстоятельств, которые могли бы играть роль в наблюдаемом явлении, мы также называем инвариантностью [7]. Однако эта инвариантность носит несколько иной характер, чем предыдущая, поскольку её нельзя сформулировать в качестве общего принципа. Исследование условий, влияющих и, наоборот, не влияющих на свободное падение тел, явилось частью первых экспериментальных исследований поля силы тяжести. Лишь искусство и изобретательность экспериментатора позволяют ему выбирать явления, зависящие от сравнительно узкого круга достаточно легко реализуемых и воспроизводимых условий 6. В рассматриваемом нами примере наиболее важным шагом послужило то обстоятельство, что Галилей ограничил свои наблюдения сравнительно тяжёлыми телами. И вновь мы должны признать, что, не будь явлений, зависящих лишь от небольшого, легко обозримого числа условий, физика не могла бы существовать.
Хотя обе названные выше особенности замеченной Галилеем закономерности и представляются весьма важными с точки зрения философа, они не были особенно удивительными для Галилея и не содержат в себе никакого закона природы. Закон природы содержится в утверждении: время, в течение которого тяжёлое тело падает с заданной высоты, не зависит от размеров, материала и формы падающего тела. В рамках ньютоновского второго «закона» это утверждение эквивалентно утверждению о том, что сила тяжести, действующая на падающее тело, пропорциональна его массе, но не зависит от его размеров, материала и формы.
Проведённый выше анализ преследовал одну цель — напомнить, что существование «законов природы» не столь уж естественно и самоочевидно и что способность человека тем не менее открывать законы природы ещё более удивительна 7. Автор уже имел возможность некоторое время тому назад [11] 8 обратить внимание читателей на иерархию «законов природы» — последовательность слоёв, каждый из которых содержит более широкие и общие законы природы, чем предыдущий, а открытие его означает более глубокое по сравнению с уже известными слоями проникновение в строение Вселенной. Однако в интересующем нас случае наиболее важным является то, что все эти законы природы вместе со всеми, пусть даже самыми далёкими следствиями из них, охватывают лишь незначительную часть наших знаний о неодушевлённом мире. Все законы природы — это условные утверждения, позволяющие предсказывать
Законы природы хранят молчание относительно всего, что касается состояния мира в данный момент, например существования Земли, на которой мы живём и на которой Галилей проводил свои эксперименты, существования Солнца и всего, что нас окружает. Отсюда следует, что законы природы можно использовать для предсказания будущего лишь в исключительных обстоятельствах, а именно лишь тогда, когда известны все существенные (для предсказания будущего) условия, определяющие состояние мира в данный момент. Отсюда же следует, что создание машин, функционирование которых физик может предвидеть заранее, является наиболее эффектным его достижением. В этих машинах физик создает ситуацию, при которой все существенные параметры известны и поведение машины предсказуемо. Примерами таких машин могут служить радары и ядерные реакторы.
Главная цель, которую мы преследовали до сих пор, — показать, что все законы природы представляют собой некие условные утверждения и охватывают лишь очень небольшую часть наших знаний об окружающем мире. Так, классическая механика — наиболее известный прототип физической теории — позволяет указывать по известным координатам и скоростям любых тел вторые производные от координат этих тел по времени, но ничего не говорит о существовании самих тел и значениях их координат и скоростей в данный момент времени. Истины ради следует упомянуть и о том, что, как стало известно лет тридцать назад, даже условные утверждения, в форме которых мы выражаем законы природы, не являются абсолютно точными, поскольку представляют собой лишь вероятностные законы. Опираясь на них и используя то, что нам известно о состоянии неодушевлённого мира в данный момент, мы можем лишь заключать более или менее разумные пари о его будущих свойствах. Вероятностный характер законов природы не позволяет нам высказывать никаких категорических утверждений, даже если ограничиться категорическими утверждениями, содержание которых обусловлено состоянием мира в данный момент. Вероятностный характер «законов природы» проявляется и в случае машин, и его нетрудно обнаружить, по крайней мере в ядерных реакторах, работающих в режиме очень малой мощности. Тем не менее область знаний, охватываемая законами природы, подвержена дополнительным ограничениям, вытекающим из вероятностного характера этих законов 10 (в дальнейшем эти ограничения не будут играть для нас никакой роли).
Освежив в памяти наиболее существенные черты математики и физики, мы можем теперь лучше разобраться в той роли, которую математика играет в физических теориях.
В своей повседневной работе физик использует математику для получения результатов, вытекающих из законов природы, и для проверки применимости условных утверждений этих законов к наиболее часто встречающимся или интересующим его конкретным обстоятельствам. Чтобы это было возможным, законы природы должны формулироваться на математическом языке. Однако получение результатов на основе уже существующих теорий — отнюдь не самая важная роль математики в физике. Исполняя эту функцию, математика, или, точнее, прикладная математика, является не столько хозяином положения, сколько средством для достижения определённой цели.
Математике, однако, отводится в физике и другая, более «суверенная» роль. Суть её содержится в утверждении, сделанном нами при обсуждении роли прикладной математики: чтобы стать объектом применения прикладной математики, законы природы должны формулироваться на языке математики. Утверждение о том, что природа выражает свои законы на языке математики, по существу было высказано 300 лет назад 11. В наши дни оно верно более чем
Разумеется, для формулировки законов природы физики отбирают лишь некоторые математические понятия, используя, таким образом, лишь небольшую долю всех имеющихся в математике понятий. Правда, понятия выбираются из длинного списка математических понятий не произвольно: во многих, если не в большинстве, случаях необходимые понятия были независимо развиты физиками, и лишь впоследствии было установлено их тождество с понятиями, уже известными математикам. Однако утверждать, как это нередко приходится слышать, будто так происходит потому, что математики используют лишь простейшие из возможных понятий, а последние встречаются в любом формализме, было бы неверно. Как мы уже видели, математические понятия вводятся не
Невольно создается впечатление, что чудо, с которым мы сталкиваемся здесь, не менее удивительно, чем чудо, состоящее в способности человеческого разума нанизывать один за другим тысячи аргументов, не впадая при этом в противоречие, или два других чуда — существование законов природы и человеческого разума, способного раскрыть их. Из всего, что мне известно, больше всего похоже на объяснение плодотворности использования математических понятий в физике замечание Эйнштейна: «Мы с готовностью воспринимаем лишь те физические теории, которые обладают изяществом». Может показаться спорным, что понятия математики, постижение которых требует напряжённой работы мысли, обладают изяществом. Замечание Эйнштейна в лучшем случае отражает определённые особенности теории, в которую мы готовы поверить, и не затрагивает внутренней непротиворечивости теории. Рассмотрению последней проблемы посвящается следующий раздел нашего доклада.
Почему физик использует математику для формулировки своих законов природы? Это можно объяснить тем, что физик довольно безответственно относится к своим действиям. В результате, когда он обнаруживает связь между двумя величинами, напоминающую
Первый пример встречается особенно часто — это движение планет. Законы свободного падения были надёжно установлены в результате экспериментов, проведённых главным образом в Италии. Эти эксперименты не могли быть очень точными в том смысле, как мы понимаем точность сегодня, отчасти
Вторым примером служит обычная элементарная квантовая механика. Последняя берёт своё начало с того момента, когда Макс Борн заметил, что некоторые правила вычислений, разработанные Гейзенбергом, формально совпадают с давно известными математикам правилами действий над матрицами. Борн, Йордан и Гейзенберг предложили заменить матрицами переменные, отвечающие координатам и скоростям в уравнениях классической механики [16, 17]. Они применили правила матричной механики к решению нескольких сильно идеализированных проблем и пришли к весьма удовлетворительным результатам, однако в те времена не было разумных оснований надеяться, что построенная ими матричная механика окажется верной и при более реальных условиях. Сами авторы надеялись, что предложенная ими «механика в основном окажется верной». Первым, кто несколькими месяцами позже применил матричную механику к решению реальной задачи — атому водорода, — был Паули. Полученные им результаты оказались в хорошем согласии с экспериментом. Такое положение дел вызывало удовлетворение, но было ещё объяснимым, поскольку при выводе своих правил Гейзенберг исходил из проблем, в число которых входила старая теория атома водорода. Чудо произошло лишь тогда, когда матричную механику или математически эквивалентную ей теорию применили к задачам, для которых правила Гейзенберга не имели смысла. При выводе правил Гейзенберг предполагал, что классические уравнения движения допускают решения, обладающие определёнными свойствами периодичности. Уравнения же движения двух электронов в атоме гелия (или ещё большего числа электронов в более тяжёлых атомах) не обладают этими свойствами, и правила Гейзенберга в этих случаях неприменимы. Тем не менее основное состояние гелия, вычисленное несколько месяцев спустя Киношитой в Корнелльском университете и Бэзли в Бюро стандартов, в пределах точности наблюдений, составлявшей около 0,0000001, находилось в согласии с экспериментальными данными. В этом случае мы поистине извлекли из уравнений нечто такое, что в них не закладывали.
Аналогичная ситуация возникла и при изучении качественных особенностей «сложных спектров», т.е. спектров тяжёлых атомов. Я. вспоминаю один разговор с Йорданом, который сказал следующее: «Когда были получены качественные закономерности спектров, последняя возможность изменить основы матричной механики состояла в том, чтобы обнаружить противоречие между правилами, выведенными из квантовой механики, и правилами, установленными в результате экспериментальных исследований». Иначе говоря, Йордан понимал, насколько беспомощными мы оказались бы (по крайней мере временно), если бы в теории атома гелия неожиданно возникло противоречие. Теорию атома гелия в то время разрабатывали Келлнер и Хилераас. Используемый ими математический формализм был слишком ясен и незыблем, и, не произойди упомянутое выше чудо с гелием, кризис был бы неизбежен. Разумеется, физика сумела бы так или иначе преодолеть этот кризис. Верно и другое: физика в том виде, как мы знаем её сегодня, не могла бы существовать, если бы постоянно не повторялись чудеса, подобные чуду с атомом гелия, которое,
В качестве последнего примера рассмотрим квантовую электродинамику, или теорию лэмбовского сдвига. В то время как ньютоновская теория тяготения ещё обладала наглядными связями с опытом, в формулировку матричной механики опыт входит лишь в утончённой и сублимированной форме правил Гейзенберга. Квантовая теория лэмбовского сдвига, основные идеи которой выдвинул Бете, была разработана Швингером. Это чисто математическая теория, и единственный вклад эксперимента в неё состоял в доказательстве существования предсказываемого ею измеримого эффекта. Согласие с вычислениями оказалось лучше 0,001.
Предыдущие три примера (число их можно было бы увеличить почти до бесконечности) призваны были продемонстрировать эффективность и точность математической формулировки законов природы с помощью специально отобранных «удобных в обращении» понятий; выяснилось, что «законы природы» обладают почти фантастической точностью, но строго ограниченной сферой применимости. Я предлагаю назвать закономерность, подмеченную на этих примерах, эмпирическим законом эпистемологии. Вместе с принципами инвариантности физических теорий эмпирический закон эпистемологии служит прочным основанием этих теорий. Не будь принципов инвариантности, физические теории нельзя было бы подкреплять экспериментом. Не будь эмпирического закона эпистемологии, нам не хватило бы мужества и уверенности — эмоциональных предпосылок, без которых нельзя было бы успешно исследовать «законы природы». Сакс, c которым я обсуждал эмипирический закон эпистемологии, назвал его догматом веры физика-теоретика и был, несомненно, прав. Однако то, что он назвал нашим догматом веры, подкрепляется примерами из практики, куда более многочисленными, чем три примера, приведённые в нашем докладе.
Эмпирическая природа сделанных выше замечаний представляется мне самоочевидной. Они явно не принадлежат к числу «логически необходимых», и, чтобы доказать это, вовсе не нужно указывать на то, что они применимы лишь к очень незначительной части наших знаний о неодушевлённом мире. Было бы нелепо считать, будто существование простых с точки зрения математика выражений для второй производной от координат по времени самоочевидно, в то время как аналогичных выражений для самой координаты или скорости не существует. Тем большее удивление вызывает та готовность, с которой чудесный дар, содержащийся в эмпирическом законе эпистемологии, был воспринят как нечто само собой разумеющееся. Способность человеческого разума нанизывать, оставаясь «правым» (т.е. не впадая в противоречие), цепочки из 1000 и более аргументов — дар, не менее удивительный.
Каждый эмпирический закон обладает тем неприятным свойством, что пределы его применимости неизвестны. Мы уже убедились в том, что закономерности в явлениях окружающего нас мира допускают формулировку с помощью математических понятий, обладающую сверхъестественной точностью. С другой стороны, в окружающем нас мире имеются и такие явления, рассматривая которые, мы не уверены, что между ними существуют
Обе альтернативы полезно проиллюстрировать на примере. В современной физике существуют две теории, обладающие огромной мощью и представляющие большой интерес: квантовая теория и теория относительности. Своими корнями названные теории уходят во взаимно исключающие группы явлений. Теория относительности применима к макроскопическим телам, например к звёздам. Первичным в теории относительности считается явление совпадения, т.е. в конечном счёте столкновения частиц. Сталкиваясь, частицы определяют или, по крайней мере, должны были бы определять (если бы они были бесконечно малыми) точку в пространстве-времени. Квантовая теория своими корнями уходит в мир микроскопических явлений, и с её точки зрения явление совпадения или столкновения, даже если оно происходит между частицами, не обладающими пространственной протяженностью, нельзя считать первичным и чётко локализованным в пространстве-времеви. Обе теории — квантовая теория и теория относительности — оперируют различными математическими понятиями: первая — понятием четырёхмерного риманова пространства, вторая — понятием бесконечномерного гильбертова пространства. До сих пор все попытки объединить обе теории оканчивались неудачей, т.е. не удавалось найти математическую формулировку теории, по отношению к которой квантовая теория и теория относительности играли бы роль приближений. Все физики считают, что объединение обеих теорий принципиально возможно и нам удастся в конце концов достичь его. Однако нельзя исключать и другую возможность — что нам не удастся построить теорию, объединяющую квантовую механику и теорию относительности. Приведённый пример показывает, что ни одну из названных возможностей — объединение двух теорий и конфликт между ними — нельзя отбрасывать заранее.
Чтобы получить хотя бы намёк, какую же из двух альтернатив нам следует, в конце концов, ожидать, притворимся чуточку более невежественными, чем мы являемся в действительности, и опустимся на более низкий уровень знания. Если, оставаясь на этом уровне знания, мы будем в состоянии обнаружить возможность слияния наших теорий, то можно с уверенностью сказать, что и на истинном уровне наших знаний такое слияние также окажется возможным. С другой стороны, обнаружив конфликт на более низком уровне знаний, мы не сможем исключить возможность существования непримиримо конфликтующих теорий и после возвращения на истинный уровень наших знаний. Уровень знания и степень нашего интеллектуального развития изменяются непрерывно, и маловероятно, чтобы сравнительно слабая вариация этой непрерывной функции изменяла имеющуюся в нашем распоряжении картину мира, внезапно превращая её из несогласованной в последовательную 12.
Высказанной только что точке зрения противоречит тот факт, что некоторые теории, ошибочность которых нам заведомо известна, позволяют получать удивительно точные результаты. Если бы мы знали немного меньше, то круг явлений, объясняемых этими «ложными» теориями, казался бы нам достаточно большим для того, чтобы уверовать в их «правильность». Однако эти теории мы считаем «ошибочными» именно потому, что, как показывает более тщательный анализ, они противоречат более широкой картине, и, если таких теорий обнаружено достаточно много, они непременно вступают в конфликт друг с другом. Не исключена и другая возможность: теории, которые, мы, опираясь на достаточно большое, по нашему мнению, число подтверждающих фактов, считаем «верными», на самом деле являются «ошибочными» потому, что противоречат более широкой, вполне допустимой, но пока ещё не открытой теории. Если бы дело обстояло именно так, мы должны были бы ожидать конфликта между нашими теориями, когда число их превысит определённый уровень и они будут охватывать достаточно широкий круг явлений. В отличие от уже упоминавшегося догмата веры физика-теоретика эту мысль следовало бы назвать «кошмаром» теоретика.
Рассмотрим несколько примеров «ошибочных» теорий, дающих, вопреки своей ошибочности, удивительно точное описание различных групп явлений. Если не быть чересчур придирчивым, то некоторые подробности, относящиеся к этим примерам, можно опустить. Успех первых основополагающих идей Бора в теории строения атома был весьма ограниченным, как, впрочем, и успех эпициклов Птолемея. Теперь мы находимся в более выгодном положении и можем точно указать все явления, которые допускают описание в рамках этих примитивных теорий. Мы не можем утверждать ничего подобного о так называемой теории свободных электронов, которая даёт удивительно точную картину свойств большинства, если не всех, металлов, полупроводников и изоляторов. В частности, теория свободных электронов объясняет тот факт (который так и не удалось объяснить на основе «настоящей теории»), что удельное сопротивление изоляторов может в 1026 раз превосходить удельное сопротивление металлов. Более того, не существует экспериментальных данных, которые бы убедительно показали, что сопротивление конечно при условиях, когда, согласно теории свободных электронов, оно должно было бы обращаться в бесконечность. Тем не менее мы убеждены, что эта теория представляет собой лишь грубое приближение и при описании явлений, происходящих в твёрдых телах, её должна была бы, заменить более точная картина.
Достигнутые к настоящему времени успехи позволяют считать, что ситуация с теорией свободных электронов несколько тревожна, но отнюдь не свидетельствует о
Гораздо больше трудностей и сомнений возникло бы, если бы в один прекрасный день нам удалось построить теорию сознания или разработать теоретическую биологию, столь же непротиворечивую и убедительную, как и существующие ныне теории неодушевленного мира. Если говорить о биологии, то законы наследственности Менделя и последующее развитие генетики вполне можно считать зачатками такой теории. Более того, не исключено, что
Я хотел бы закончить более радостной нотой. Математический язык удивительно хорошо приспособлен для формулировки физических законов. Это чудесный дар, который мы не понимаем и которого не заслуживаем. Нам остаётся лишь благодарить за него судьбу и надеяться, что и в своих будущих исследованиях мы сможем
Я хотел бы поблагодарить Поляни, который давно уже оказывает глубокое влияние на мою точку зрения в связи с проблемами эпистемологии, и Баргмана за дружескую критику, способствовавшую достижению ясности. Я очень признателен также Шимони, просмотревшему рукопись данного доклада и обратившему моё внимание на статьи Пирса.
| 1. | Речь идёт о замечании Вернера, в то время студента Принстонского университета. назад к тексту |
| 2. | Приведённое замечание принадлежит Дубиславу [1]. назад к тексту |
| 3. | Поляни [2] (на стр. 188) говорит следующее: «Все упомянутые выше трудности проистекают единственно из нашего нежелания понять, что математику как науку нельзя определить, не признав её наиболее очевидного свойства — того, что она интересна». назад к тексту |
| 4. | В этой связи читателю будет небезынтересно ознакомиться с весьма красочными замечаниями Гильберта об интуиционизме, который пытается «подорвать и обезобразить математику» (см. [3,4]). назад к тексту |
| 5. | См. работу Шрёдингера [5], а также работу Дубислава [6]. назад к тексту |
| 6. | В этой связи см. также яркий очерк Дейча [8]. Шимони обратил моё внимание на аналогичную мысль у Пирса [9]. назад к тексту |
| 7. | Шрёдингер [10] говорит, что второе чудо также может выходить за рамки человеческого понимания. назад к тексту |
| 8. | См. также работу Маргенау [12]. назад к тексту |
| 9. | Автор считает излишним напоминать о том, что приведённая выше формулировка закона Галилея не исчерпывает полностью содержания выполненных Галилеем наблюдений по выяснению законов свободного падения тел. назад к тексту |
| 10. | См., например, работу Шрёдингера [5]. назад к тексту |
| 11. | Его приписывают Галилею. назад к тексту |
| 12. | Эту мысль я написал после больших колебаний. Я убеждён, что в эпистемологических дискуссиях полезно отказаться от представления об исключительно высоком положении уровня человеческого интеллекта на абсолютной шкале. В ряде случаев полезно рассматривать достижения, доступные и при уровне развития, свойственном отдельным видам животных. Я полностью отдаю себе отчёт в том, что идеи, приведённые в тексте доклада, очерчены слишком бегло и не подвергались достаточно критическому обсуждению, чтобы их можно было считать надёжными. назад к тексту |
ДЖОН ФОН НЕЙМАН
Опубликовано в книге:Прошлым летом в Эдмондтоне (провинция Альберта) состоялся Канадский математический конгресс. Профессор Диксмье из Парижа прочитал доклад об алгебрах фон Неймана, доктор Цассенхауз начал свои лекции по теории групп с неймановского определения инфинитезимальных операторов и их коммутаторов, доктор Таккер из Принстона сообщил о новых результатах в теории игр — ещё одной области математики, которую фон Нейман отчасти заложил своими трудами и существенно обогатил своими идеями. Фон Нейман внёс важный вклад во все области математики, за исключением теории чисел и топологии, и оставил заметный след в теоретической физике и экономике. Его работа во время войны имела жизненно важное значение для успеха нескольких проектов, а его вклад в национальное благосостояние и национальную безопасность с окончанием войны не только не прекратился, но даже усилился. Он умер, будучи членом Комиссии по атомной энергии США.
Джон фон Нейман родился 28 декабря 1903 г. в семье состоятельного банкира в Будапеште. Образование он получил в Высшей лютеранской школе в своем родном городе. В то время эта школа была,
В школе и среди коллег Янчи старался держаться незаметно. Он принимал участие во всех проделках своего класса, но если можно так выразиться, не от всей души, а лишь для того, чтобы не выделяться. У него было несколько близких друзей, и он пользовался всеобщим уважением. Все студенты признавали его умственные способности и не без зависти восхищались ими. Янчи любил беседовать о математике даже в том юном возрасте, и его друзьям после прогулок с фон Нейманом нередко случалось поздно возвращаться домой.
После окончания высшей школы Нейман в течение двух лет изучал химию в Берлинском университете, а затем также в течение двух лет — в Цюрихе. Занятия химией были своеобразной страховкой от превратностей карьеры математика. Математик в то время мог заниматься только преподаванием, а преподавательских мест в университете было очень мало. Жалованье, получаемое преподавателем, не соответствовало стандартам богатых родителей Неймана. Поэтому занятия химией были избраны как компромисс между научными наклонностями Янчи и суровой реальностью жизни, на которую не закрывали глаз не только его семья, но и он сам. Однако бо́льшую часть времени студент-химик проводил в обществе математиков Берлина и Цюриха, и привязанность юного студента к предмету его занятий никогда не была особенно сильной. Он успешно закончил свои занятия химией, но в том же году, в котором он получил в Цюрихе свой диплом химика, он получил степень доктора философии по математике в Будапеште. Очевидно, диссертация на эту степень и экзамены не потребовали от него сколько-нибудь значительных усилий.
После получения степени доктора философии фон Нейман продолжил свои занятия в Геттингене и Гамбурге и в 1927 г. стал приват-доцентом Берлинского университета. Химия постепенно отошла на задний план и была полностью оставлена, и его интересы сосредоточились на математике и теоретической физике. Именно в этот период фон Нейман опубликовал некоторые из своих наиболее значительных работ.
В 1929 г. фон Нейман получил приглашение провести один семестр в Принстоне. Америка понравилась ему с первого взгляда, и он почувствовал себя в общественной и научной атмосфере Принстона как рыба в воде. Приглашение на один семестр вскоре было расширено: фон Нейману предложили занять профессорскую должность сначала на полставки, а в 1931 г. — на полную ставку. Незадолго до своего первого визита в Принстон фон Нейман женился. Он и его жена, урождённая Мариэтта Кевеши, нашли в Принстоне многих друзей, любовь которых ни к мужу, ни к жене не уменьшилась и в последующие годы. Вечера, которые устраивала Мариэтта, и веселая атмосфера их дома вошли в Принстоне в поговорку и были излюбленной темой разговоров ещё долго после их отъезда в 1937 г. У фон Нейманов была одна дочь Марина. Ныне она вышла замуж и живёт в Принстоне.
В 1933 г., вскоре после основания Института высших исследований, фон Нейману предложили место в математическом отделе института. В то время институт был грандиозным экспериментом в области высшего образования и исследовательской работы в США, вдохновителями и организаторами которого выступили Флекснер и Веблен и их друзья-единомышленники, взявшие на себя финансирование всего предприятия. Приглашение в институт фон Неймана, тридцатилетнего математика, вместе с некоторыми самыми выдающимися и знаменитыми математиками США означало не только признание его таланта, но и свидетельствовало о полноте его слияния с жизнью Америки. Всю остальную часть своей научной карьеры фон Нейман провёл в Институте высших исследований. Ещё до войны он вступил во второй брак с Клари Дан (с которой познакомился ещё в Венгрии и которая пережила его).
Деятельность фон Неймана во время войны была чрезвычайно многообразной. Особенно широкую известность получил взрывной метод инициирования атомного взрыва. Фон Нейман придумал этот метод независимо от других, но, несомненно, в результате прекрасного знания физики зарядов с искривлённой поверхностью. Фон Нейман никогда не порывал своих связей с военными и с работами по использованию ядерной энергии и после окончания войны и отдавал много времени, энергии и сил укреплению военной мощи своей второй родины. Последние годы его жизни были полностью посвящены работе в правительственных учреждениях, и после нескольких лет службы он умер 8 февраля 1957 г., будучи членом Комиссии по атомной энергии США.
Описать сколько-нибудь подробно вклад фон Неймана в науку — математику, физику, экономику, решение технических проблем — менее чем на 10 страницах просто невозможно. Его работа в области математики, которая всегда была особенно близкой его сердцу и в которой его блестящий ум находил наиболее полное выражение, проходила под сильным влиянием гильбертовской аксиоматической школы. Это влияние прослеживается не только в работах фон Неймана по математической логике, но и в его подходе к другим проблемам, в решение которых он также внёс фундаментальный вклад: теории гильбертова пространства, теории неограниченных операторов, квантовой механике, теории игр. Объекты, изучением которых занималась рассматриваемая им теория, фон Нейман описывал, перечисляя те их свойства, которые затем использовались при доказательствах того или иного утверждения. Таким образом, результаты теории были применимы ко всем объектам, обладавшим перечисленными свойствами, независимо от их природы. Помимо уже названных областей математики фон Нейман внёс решающий вклад в теорию групп и алгебру операторов. Вершиной его работы в области теоретической физики явилась книга «Математические основы квантовой механики», вышедшая задолго перед войной, но лишь недавно переведённая на английский язык 1. Его исследования в области экономики нашли своё окончательное выражение в классическом труде «Теория игр и экономическое поведение» 2, написанном совместно с Моргенштерном, одним из ближайших друзей фон Неймана в последние годы. Главным итогом его работы по теории вычислительных машин, несомненно, следует считать создание Принстонской вычислительной машины и её многочисленных «сестёр». Фон Нейман опубликовал также много статей, посвящённых анализу основных принципов работы вычислительных машин, и его результаты позволили достичь важных успехов на пути к аксиоматической теории автоматов.
Только выдающийся ум мог внести в науку столь значительный вклад, какой был сделан фон Нейманом. Безупречная логика была наиболее характерной чертой его мышления. Он производил впечатление идеальной логической машины с тщательно подогнанными шестерёнками. «Слушая фон Неймана, начинаешь понимать, как должен работать человеческий мозг», — таков был вывод одного впечатлительного коллеги фон Неймана. Ещё более поразительным был свойственный ему блеск мышления. Эта черта отчётливо проявилась, когда фон Нейману было ещё только 15 лет. Третьей отличительной чертой его ума была замечательная память, позволявшая ему помимо научной работы иметь десятки увлечений. Он был историком-любителем, осведомлённость которого в событиях огромных периодов истории не уступала осведомлённости профессионала, свободно говорил на пяти языках и умел читать
Глубокое чувство юмора и незаурядный дар рассказчика различных историй и анекдотов вызывали симпатию к фон Нейману даже у случайных знакомых. Если нужно, он мог быть резким, но никогда не был напыщенным и чванным. Фон Нейман с его безупречной логикой понимал и соглашался со многим из того, что большинство из нас не хотело принимать и даже понимать. Это ощущалось во многих высказываниях фон Неймана на темы морали. «Сетовать на эгоизм и вероломство людей так же глупо, как сетовать на то, что магнитное поле не может возрастать, если ротор электрического поля равен нулю: то и другое — законы природы». Лишь научная, интеллектуальная нечестность и присвоение чужих научных результатов вызывали его гнев и негодование независимо от того, кто был пострадавшим — он сам или
Когда фон Нейман понял, что он неизлечимо болен, логика заставила его прийти к выводу, что он перестанет существовать и, следовательно, мыслить. Такое заключение, весь смысл которого непостижим для человеческого рассудка, ужаснуло его. Тяжело было видеть, как ум его, по мере того как исчезали все надежды, терпел одно поражение за другим в борьбе с судьбой, казавшейся ему хотя и неизбежной, но тем не менее совершенно неприемлемой.
Доктор фон Нейман за свои научные достижения был удостоен многих наград и отличий. Он был избран членом Американского философского общества (1938 г.) и членом Национальной Академии наук в необычайно молодом возрасте. Он состоял членом-корреспондентом Королевской голландской академии, Ломбардского института, Академии деи Линчи, Перуанской Академии, членом Американской академии искусств и наук, получил Медаль за заслуги, награду за выдающиеся гражданские заслуги и премию Ферми Комиссии по атомной энергии США. Фон Нейман сделал очень многое. Он был великим умом,
| 1. | Имеется перевод: Иоганн фон Нейман, Математические основы квантовой механики, М., «Наука», 1964. — Прим. перев. назад к тексту |
| 2. | Имеется перевод: Нейман Дж., Моргенштерн О., Теория игр и экономическое поведение, М., «Наука», 1970. — Прим. ред. назад к тексту |