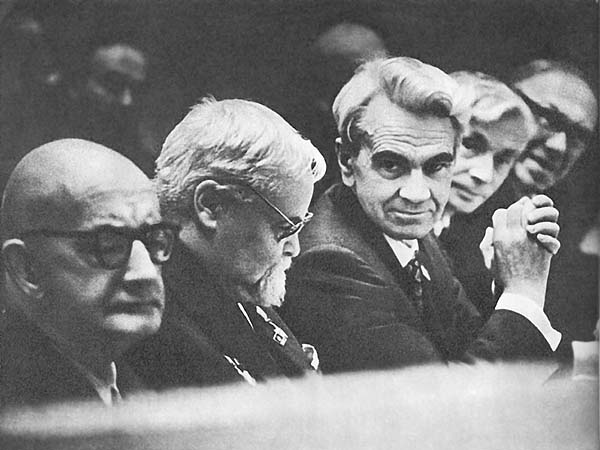
В Доме учёных (П. С. Александров, А. Н. Тихонов,
| УСПЕХИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК | |
В этих записках происшествия и встречи моей долгой жизни освещаются как бы изнутри этой жизни, так что получается субъективное повествование, являющееся скорее страницами психологически окрашенного дневника, чем эпическим объективным описанием жизни автора в рамках данного общества и данной эпохи.
С другой стороны, именно этот субъективно-психологический характер делает мои записки неким человеческим документом, который на вопрос: «какой может быть жизнь человека данной профессии и данной эпохи?» отвечает: «в частности и такой, как здесь описано». Ничем другим, как таким единичным (среди множества других возможных) «человеческих документов» мои записки не являются и не предназначены быть.
Помню я себя с четырёхлетнего возраста. Моё первое воспоминание касается разговора моей матери с особой, которая была приглашена, чтобы быть моей немецкой бонной. Разговор происходил на немецком языке, которым (как и французским) моя мать хорошо владела. Моя мать говорила с Ольгой Петровной (так звали собеседницу), что через две (или три) недели мне исполнится четыре года, из чего следует, что был этот разговор во второй половине апреля 1900 года.
Я помню ярко освещённую весенним солнцем столовую нашего Смоленского дома с двумя окнами (вернее, окном и стеклянной дверью), выходящими в сад. Комната была в первом этаже большого двухэтажного деревянного дома на территории Смоленской губернской больницы, главным (или, как тогда эта должность называлась) старшим врачом которой был мой отец. Упомянутый дом был квартирой, предоставленной моему отцу по его должности. Как я понимаю, моя мать в своём разговоре с Ольгой Петровной излагала ей её будущие обязанности. Разговор увенчался успехом.
Ольга Петровна прожила у нас несколько больше четырёх лет на положении члена семьи и отношения у меня с ней были самые лучшие. Насколько я себе представляю, Ольге Петровне было лет 30, она была рижанка, по национальности, вероятно, латышка и хорошо говорила
Ольга Петровна много читала мне вслух немецкие сказки, главным образом, братьев Гримм и Гауфа, а также сказки Андерсена в немецком переводе. Мы много гуляли за городом, чему очень способствовало то, что Смоленская больница, а следовательно, и наш дом, были расположены на самом краю города и дальше была живописная холмистая местность с красивыми рощами.
Немецкий язык и немецкие сказки, игравшие такую большую роль в моих самых ранних детских впечатлениях, несомненно, оказали значительное влияние на дальнейшее формирование моей личности, став началом той глубокой связи с немецкой культурой, которая яркой чертой проходит через всю мою жизнь. Ведь фактически немецкий язык был моим вторым родным языком.
Особенностью моего раннего детства было почти полное отсутствие игрушек и развлечений в обычном смысле слова, т.е., вернее, крайняя простота и тех и других. Моей игрушкой был, например, вырезанный из картона «воздушный шар», долженствовавший изображать воздушный шар братьев Монгольфье,
Моя бабушка Варвара Васильевна, проживавшая последние десятилетия своей жизни (вместе со своим супругом Дюваль) в Париже (см. стр. 223), 220
Особенностью моего детства и ранней юности, ещё более важной, чем примитивность игрушек и крайняя простота развлечений, является отсутствие друзей — сверстников. Первого такого друга я приобрёл осенью 1912 г. в последнем классе гимназии, когда мне было шестнадцать с половиной лет.
Моё общество в детстве составляли: моя мать, моя немецкая бонна, и затем моя старшая сестра Татьяна Сергеевна, бывшая моим действительно близким другом в годы 1907–1912, до самой её смерти
Моё первое знакомство с художественной литературой осуществлялось моей матерью, читавшей мне вслух сначала русские сказки (и некоторые стихотворения Жуковского и Пушкина), а позднее русских классиков, а также Шиллера и Шекспира (в русских переводах). Сам я очень рано начал читать понятные для моего возраста научно-популярные книжки. Это были прежде всего превосходные книжки Рубакина, главным образом географического и этнографического характера, имевшие и хорошую моральную тенденцию, сформулированную автором в словах «Любовь к природе и к свободе».
Через книги, посвящённые Африке и Южной Америке, ярко проходило сочувствие населявшим эти страны народам, возмущение их угнетением со стороны колонизаторов. Это чувство занимало большое место в моей детской психологии. Мой интерес к географии сопровождался и увлечением, с которым я стал рисовать географические карты. Из собственно детской приключенческой литературы я прочитал только «Дети капитана Гранта» Жюля Верна и очень скоро перешёл к более серьёзным книгам по географии. Это были так называемые «географические сборники», издававшиеся под редакцией четырёх авторов — (Крубера, Григорьева, Баркова и Чефранова). В своей совокупности эти книги составили превосходно написанную многотомную географическую хрестоматию. Я с большим интересом прочитал 221 также трёхтомную «Жизнь европейских народов» Е. Н. Водовозовой, к тому времени уже несколько устаревшую, но всё же очень интересную и содержательную.
Потом мой интерес переключился на геологию. Я прочитал серьёзные (но всё же популярные) книги, как, например, Петерса «Что говорят камни», «Вымершие чудовища» Гетчинсона, и наконец уж совсем серьёзную «Историю Земли» Неймайра, из двух больших томов которой я изучил полтора, пропустив лишь вторую половину второго тома, посвящённую полезным ископаемым.
Отмечу проявившуюся уже тогда постоянную особенность моей психологии, состоявшую в том, что я во всякой науке всегда предпочитал большие теоретические концепции обобщающего характера отдельным конкретным фактам и приложениям. Особенно сильно эта черта, коренящаяся, вероятно, в глубинах моего подсознания, проявилась в моих математических интересах и в направлении всех моих математических работ.
Интерес к геологии сменился ещё большим интересом к астрономии и я прочитал несколько относящихся к ней хороших книг разной степени трудности; кончая «Изложением системы мира» Лапласа, которую понял достаточно, чтобы очень заинтересоваться небесной механикой.
Перед моим поступлением в гимназию имела место ещё следующая интерлюдия. Летом 1908 г. мой старший брат Михаил Сергеевич (1885–1965), впоследствии крупный врач, после нескольких лет колебаний между музыкальной и медицинской профессиями, наконец прочно стал студентом медицинского факультета и был занят в это лето подготовкой к экзамену по неорганической химии.
Летом 1902 г. в моей жизни произошло большое событие: моя мать свела меня купаться на Днепр и начала меня учить плавать. С этого дня она стала систематически, не пропуская по возможности ни одного дня, водить меня купаться, вскоре научила плавать, и купание стало моим самым любимым развлечением и осталось им в течение всей моей жизни.
На следующее лето мои родители сняли дачу в одном имении (Пасово), расположенном примерно в пяти верстах от Смоленска в очень живописной местности. Там было прекрасное озеро и ежедневное купание стало прочной привычкой всех членов нашей семьи. Мои старшие братья любили переплывать озеро, но мне это не разрешалось. В 1904 г. мои родители приобрели небольшое имение Михеево (150 гектаров), средства для покупки которого предоставил П. П. Воронин
В Смоленской губернии мой отец были известен как выдающийся врач и как медицинский общественный деятель. Сразу же после Октябрьской революции ему было предложено, сохраняя должность главного врача больницы, стать заведующим лечебным подотделом Губернского отдела здравоохранения. Летом 1918 г. районные представители Советской власти не только не выселили нас из Михеева, но настоятельно предлагали моему отцу поселиться в нём и оказывать медицинскую помощь окружающему населению. Но отец был слишком прочно связан со Смоленской больницей, чтобы согласиться на это предложение, да оно, конечно, и не было реальным. Во всяком случае лето 1918 г. было последним летом, проведённым мною в Михееве и я никогда после в нём уже не бывал.
Но теперь пора сказать несколько слов о моих родителях. Всем моим воспитанием в детские годы руководила всецело моя мать. Отец мой оказал на моё развитие очень большое влияние, но уже в мои более поздние, отроческие 222 и особенно юношеские годы. Поэтому сначала скажу о своей матери. Ею была Цезария Акимовна Здановская, происходившая из старинного польского дворянского рода Здановских, до сих пор имеющего (как мне говорили польские коллеги) своих представителей в Польше. Ветвь этого рода, к которой принадлежала моя мать, имела родословную, прослеживающуюся непрерывно до
В шестидесятых годах XIX века, уже после рождения моей матери (1861–1946), мой дед Аким Игнатьевич Здановский в связи с польским восстанием имел неприятности, заставившие его спешно перебраться из Подольской губернии в Тульскую, и искать там пристанища, поступив на службу к
Моя мать получила образование в известной в конце прошлого и в начале нынешнего века женской классической гимназии С. Н. Фишер, поступив туда при самом её основании. Эту же гимназию окончили и обе мои сестры — Татьяна и Варвара. Особенностью этой гимназии, выделявшей её среди всех русских женских учебных заведений того времени, было то, что программы обучения в ней в точности совпадали с тогдашними программами мужских гимназий, что, в частности, относилось к математике, физике и древним языкам. В последний год существования гимназии Фишер, в зиму 1917–1918 гг., уже после смерти С. Н. Фишер, я, только что окончивший тогда Московский университет, преподавал в этой гимназии математику.
Родителями моего отца Сергея Александровича Александрова (1858–1920) были: богатый московский купец Павел Петрович Воронин и простая крестьянская девушка из Владимирской губернии, которую я в своё время узнал под именем бабушки Варвары Васильевны. Через несколько лет после рождения сына Варвара Васильевна при содействии Павла Петровича Воронина вышла замуж за француза Ж. Дюваля, по профессии парикмахера. В надлежащее время мой отец заботами Павла Петровича был отдан в первый класс Первой казанской гимназии, которую своевременно и хорошо окончил, а по окончании гимназии поступил на медицинский факультет Московского университета. Университетским преподаванием мой отец очень заинтересовался и учился хорошо в течение всего курса. При приближении к окончанию университета моему отцу, как и его однокурснику А. П. Губареву, впоследствии 223 известному профессору медицинского факультета Московского университета, было предложено остаться при университете, что соответствовало теперешней аспирантуре. Но на последнем, пятом курсе отец стал участвовать в нелегальных студенческих политических кружках и увлёкся этой новой деятельностью. Неизвестно, чем бы она окончилась. Как выяснилось потом, отцу грозило не только исключение из университета, но и высылка из Москвы. В дело вмешалась Софья Николаевна Фишер, которая была хорошо знакома со всесильным тогда М. Н. Катковым. Она, узнав от моей матери о грозившей отцу опасности, обратилась к Каткову с просьбой отвести эту опасность от мужа одной из любимых её учениц. Катков внял просьбе С. Н. Фишер и дело моего отца завершилось тем, что ему было разрешено окончить университет и поступить на место участкового земского врача в глуши Моложского уезда Ярославской губернии, где его предшественник только что умер от сыпного тифа. Это было первое врачебное место моего отца. Через несколько лет работы на нём отец стал сначала фабричным врачом на Городищенской текстильной фабрике Четвериковых в Богородском уезде Московской губернии, а затем старшим врачом Богородской уездной земской больницы. В Богородске я и родился в 1896 году. Наконец в 1897 году отец был приглашён на должность старшего врача Смоленской губернской земской больницы. Находясь бессменно на этой работе, он и умер на своём посту в больнице
Мой отец был выдающимся врачом, выдающимся общественным деятелем и выдающимся человеком. Перевидав в своей долгой жизни многих незаурядных людей различных профессий, я уверенно могу сказать, что одним из самых выдающихся среди них, одной из самых одарённых, ярких и светлых человеческих личностей среди всех, кого я знал, был мой отец. Его, как теперь говорят, узкой медицинской специальностью была оперативная гинекология. Его творческим результатом в этой области была предложенная им новая хирургическая операция (см. во втором издании Большой советской медицинской энциклопедии статью «Александрова–Вертхейма операция»), опубликованная в специальных журналах и в России и за границей, и снискавшая моему отцу известность. Одним из проявлений этой известности было то, что когда в 1911 г. в Петербурге состоялся Международный конгресс гинекологов и акушеров, мой отец, не имея даже звания профессора, был избран «товарищем председателя»
Выдающиеся организаторские способности моего отца проявились в том высоком уровне, на который он поставил Смоленскую больницу с того самого момента, как он стал её руководителем и который ему удавалось поддерживать, оставаясь во главе этой больницы почти четверть века. С самого же начала в качестве заведующего хирургическим отделением был моим отцом привлечён один из крупнейших хирургов своего времени Сергей Иванович Спасокукоцкий, проработавший в Смоленской больнице десятилетие, о котором он потом писал моему отцу, что именно это десятилетие сделало из него того хирурга, которым он стал впоследствии.
Мой отец был не только специалистом, очень крупным в своей области; он был и широко образованным, разносторонним врачом, как того требовала в его понимании русская земская медицина. И он вполне отвечал всем самым строгим требованиям этого рода. В частности, он прекрасно знал и внутренние и инфекционные болезни, а его исключительная общемедицинская и, в частности диагностическая, интуиция содействовала тому, что его постоянно привлекали в качестве консультанта в различные отделения больницы и в другие лечебные заведения.
Влияние моего отца на формирование меня как человека было очень велико. Ещё в свои подростковые годы я услышал от него и воспринял как заповедь на всю жизнь слова о том, что дело, которому ты посвятил себя, 224 ты должен любить, любить бескорыстно, и заниматься им именно потому, что ты любишь это дело, а не потому, что ты ждёшь от него личного успеха или какой-нибудь выгоды для себя. Если ты будешь заниматься своим делом ради своего успеха, а не ради самого дела, не потому, что любишь его, то не будет ни дела, ни твоего успеха в нём. А если личный успех и бывает, то лишь, так сказать, как приложение к бескорыстной заинтересованности в любом деле.
По существу, мой отец говорил мне то же, что К. С. Станиславский, имея в виду занимающихся искусством, выразил в известной формуле «люби искусство в себе, а не себя в искусстве». Но я услышал аналогичную заповедь от своего отца, находясь ещё в очень юном, почти детском возрасте, и в применении к науке, которой уже очень рано мечтал себя посвятить. Впрочем, об этом смотри ниже, когда будет речь о моём поступлении в университет. Учил меня отец и уважению к труду, ко всякому честному труду, как к одной из основных жизненных ценностей, учил и уважению к науке, как к основному в его глазах пути к исканию истины, учил презирать богатство и смотреть на деньги, как на необходимое зло в нашем теперешнем обществе, а отнюдь не как на самодовлеющую ценность, достойную того, чтобы к ней стремиться.
Насколько я себе представляю, в период моей юности мировоззрением моего отца был в основном тот естественнонаучный («наивный») материализм, который в его время разделяли многие представители русской, в частности, русской медицинской интеллигенции. Но последовательным материалистом мой отец никогда не был. Он допускал существование иррационального, непознаваемого начала и в природе, и в человеке. Не будучи (по крайней мере, в то время) религиозным человеком, он умел уважать религиозное мировоззрение в других, например, в Михаиле Акимовиче Здановском и в Софии Николаевне Фишер.
Но пора, наконец, снова взяться за прерванную столькими отступлениями основную нить моего повествования. Она привела нас к моему поступлению весной 1909 г. в гимназию. Осенью того же года я стал учеником четвёртого класса смоленской частной мужской гимназии Н. П. Евневича. Преподаватели в этой гимназии были очень хорошие. Чрезвычайно увлекательными были уроки В. М. Боголепова по древней истории, а также уроки И. С. Коростелёва по русскому языку.
Латынь мне давалась совсем легко, я был хорошо подготовлен моей матерью (мне на всю жизнь хватило по латыни запасов, вынесенных моей матерью из гимназии Фишер. Да, хорошо там преподавали языки!). То же было у меня и с французским: при всей неполноте моего французского словаря, при недостатках моего синтаксиса, мои старшие французские коллеги и Данжуа, и Фреше хвалили моё французское произношение, а ему я научился у своей матери. Наша гимназическая учительница французского языка, Жозефина Карловна Залесская, элегантная польская дама, вдова генерала, в свои
Математику у нас преподавал Александр Романович Эйгес. Первую письменную работу по алгебре я написал у него на четвёрку и до сих пор помню наложенную на мою работу резолюцию: «Задачи решены хорошо, толково, однако в алгебре важны знаки, а у Вас к ним невнимательное отношение». 225 Ошибки в знаках всегда были моей бедой, и я помню, как двадцать лет спустя Хопф смеялся надо мною и говорил, что именно для таких математиков, как я, придумана гомологическая топология по
Когда Александр Романович стал решать с нами довольно сложные задачи, касающиеся разложения многочленов на множители, я не всегда находил, какую надо сделать группировку членов, и вообще особой изобретательности при разложении на множители не проявлял. В соответствии с этим среди моих отметок попадались и четвёрки. Они исчезли, когда мы перешли к уравнениям. Но ещё больше чем уравнения заинтересовала меня геометрия, начиная уже с того, что в ней были и аксиомы, и теоремы, и доказательства, а не одни задачи.
Когда мы дошли до теории параллельных, А. Р. Эйгес с поразительным педагогическим тактом и мастерством начал нам рассказывать о геометрии Лобачевского. Сама постановка вопроса меня потрясла. Никогда до этого времени я ничем не был в такой степени заинтересован и увлечён. Геометрия стала для меня действительно
Второго апреля 1910 г. в Смоленске состоялся концерт Гофмана, одного из величайших пианистов своего времени. На этот концерт мы пошли всей семьёй. Впечатление от концерта у меня было огромное, и я до сих пор помню его программу. В него входили:
Следующую зиму 1910–1911 гг. я почти сплошь болел, у меня были сначала грипп, потом коклюш и скарлатина. Последняя, хотя и протекала в лёгкой форме, дала в виде осложнения долго длившийся нефрит, который тогда лечили бесконечной чисто молочной диетой.
Этот план, инициатором которого был А. Р. Эйгес, был горячо поддержан моими родителями. Встретил он одобрение и со стороны директора гимназии 226 И. С. Коростелёва, преподававшего в старших классах литературу. Он сам предложил в течение предстоящей зимы встречаться со мною столько раз, сколько понадобится ему для того, чтобы быть в курсе моих самостоятельных занятий литературой и направлять их своими советами. И в самом деле, И. С. Коростелёв часто приглашал меня в течение зимы 1911–1912 гг. к себе запросто к вечернему чаю. После этого чая уже у себя в кабинете он подолгу беседовал со мною на темы, прямо, а иногда лишь косвенно связанные с русской литературой. Не нужно слов, чтобы понять, как сильно способствовали эти беседы моему общему развитию далеко за пределами обязательного гимназического курса литературы.
За эти вечера я хорошо и прочно вошёл в дом Коростелёвых и потом в течение многих лет поддерживал с ними очень теплые отношения.
Иосиф Семёнович Коростелёв был человеком незаурядным. Сын крестьянина-бедняка Красноярской области, он с ранних лет должен был своим трудом зарабатывать свой хлеб и учился, как говорят, на медные гроши сначала в учительской семинарии, потом в учительском институте и, наконец, на историко-филологическом факультете Московского университета. Всё время живя частными уроками, он окончил курс с отличием и потом сделался действительно выдающимся педагогом и, наконец, всеми уважаемым, директором лучшей смоленской гимназии.
С осени я начал ходить в гимназию. Учителя были все прежние, но товарищи были новые, так как я перешёл в новый класс. С одним из моих новых товарищей — Сашей Богдановым (Шуркой, как все его звали в классе) я очень подружился и эта моя первая юношеская дружба продолжалась и в мои студенческие и последующие «черниговские» годы. Окончилась она лишь осенью 1919 года в Чернигове при очень драматических обстоятельствах оторвавших Сашу Богданова не только от меня, но и от возникшей к тому времени его семьи, и от его родины.
Учиться в восьмом классе мне было легко (я был хорошо подготовлен), и я мог продолжать свои математические занятия, поддерживавшиеся частыми встречами с А. Р. Эйгесом, что, впрочем, не помешало Александру Романовичу поставить мне именно в
С постоянным интересом я посещал уроки И. С. Коростелёва по русской литературе. С интересом, и, как я думаю, с пользой, я писал сочинения по русской литературе и по истории. Но моим главным увлечением в восьмом классе гимназии было прочтение и в подлиннике и в нескольких русских переводах «Фауста» Гёте, на всю жизнь сделавшегося одним из наиболее любимых мною произведений мировой литературы. И. С. Коростелёв, а также А. Р. Эйгес, с которыми я делился своими впечатлениями о Фаусте и вызванными им мыслями, побудили меня прочитать в гимназии лекцию о Фаусте. Лекция была открытой не только для учеников нашей гимназии, но и для других смоленских учебных заведений. Пришли на неё и учителя. В общем зал был переполнен и я, что называется, «имел успех». Да я и сам понимал что лекция прошла удачно. В качестве своего рода оппонента после моей лекции выступил А. Р. Эйгес, противополагавший мировоззрение Гёте мировоззрению Достоевского (и Толстого). Вообще же во время моих очень многочисленных и длительных встреч с А. Р. Эйгесом мы говорили не только о математике, но и о литературе, философии, музыке. Александр Романович имел огромное влияние на всё моё духовное развитие и я это влияние чувствовал в течение всей моей жизни. 227
Весною 1913 года я окончил с золотой медалью гимназию и получил аттестат зрелости. На выпускных экзаменах, шедших по очереди или по алфавиту, или в обратном порядке, мне всегда приходилось отвечать или первым, или последним. Заключительным среди выпускных экзаменов был экзамен по закону Божию и на нём мне пришлось отвечать последним, так сказать, под занавес всей экзаменационной сессии. А сессия эта — первая выпускная сессия нашей гимназии была торжественная, и на заключительном экзамене, кроме представителя учебного округа, были в качестве почётных гостей и губернатор, и епархиальный архиерей.
Мне достался билет о несовместимости православного нравоучения с этикой социализма, относящийся к курсу последнего, восьмого класса гимназии (курс этот так и назывался «православное нравоучение»). У меня не было даже учебника по этому курсу, но я хорошо знал катехизис, изучавшийся в пятом классе, и у меня была привычка к аксиоматическому мышлению. Поэтому мне было легко извлечь из катехизиса основные нравственные аксиомы и, подкрепляя их подходящими текстами, т.е. цитатами (искусство, которым я с юных лет обладал и которое сослужило мне хорошую службу), ответить более или менее на всякий вопрос, относящийся к православному нравоучению (и не только к нему). В частности, мне было легко ответить и на вопрос, стоявший в моём билете. Естественно, я получил пятёрку.
В связи с этим вспоминаю, что на уроках закона Божия моей постоянной ролью было, когда
Итак, экзамены на аттестат зрелости, а с ними и гимназия отошли в прошлое, оставив у меня воспоминание о гимназии, как о светлом и радостном времени моей жизни.
В июне 1913 г. в Смоленске, в летнем театре Лопатинского сада (ныне парк культуры и отдыха) гастролировала
В один из первых дней сентября 1913 г. я стал студентом математического отделения Московского университета, с которым с того дня и оказалась связанной вся моя жизнь. Поступая в университет, я думал посвятить свою жизнь математике и своим ученикам (что и произошло на самом деле), но предполагал при этом, что буду преподавателем гимназии, как и мой учитель Александр Романович Эйгес. Лишь в это последнее предположение судьба внесла свои поправки.
Прощаясь сейчас с моей доуниверситетской жизнью, т.е. с моим детством и гимназическими годами, я не могу не сказать, что вся эта моя ранняя юность была действительно «лёгкой» и безоблачно счастливой (только 228 однажды, за год до её конца омрачённой одним, правда, тяжёлым горем, смертью сестры Татьяны в 1912 г.).
Но прежде, чем перейти к университетскому периоду моей жизни, я хочу ещё раз оглянуться на гимназию, и вообще на Смоленск. Я уже говорил, что у меня в гимназии были хорошие учителя. Чеховских «человеков в футляре» среди них не было. Единственной неудачей среди моих учителей я считаю свою учительницу немецкого языка в четвёртом и в пятом классах. Она требовала от нас только механического заучивания грамматических правил, в особенности же зубрежки наизусть всех шести классов глаголов так называемого сильного спряжения. В применении ко мне её уроки имели своим единственным последствием постепенное (к счастью, медленное) забвение знания немецкого языка, приобретённого мною в раннем детстве дома.
Зато очень повезло мне с учительницей немецкого языка в восьмом, последнем классе гимназии. Эта учительница, Лилли Рейнгольдовна Ридек, не только превосходно знала свой родной язык и его классическую литературу, но с увлечением преподавала его и искренне стремилась к тому, чтобы мы, её ученики, не только в достаточной степени овладели им, но и, если не полюбили его, то, во всяком случае, заинтересовались бы им. Лилли Рейнгольдовна решила силами своих учеников–восьмиклассников поставить на немецком языке спектакль: шиллеровскую драму «Вильгельм Телль». Я в этом спектакле должен был играть довольно трудную и считавшуюся ответственной роль Вальтера Фюрста. Сначала всё шло благополучно и мы провели несколько репетиций. Но потом участие в подготовке спектакля стало мне в тягость. Вероятно, я почувствовал отсутствие во мне всяких актёрских способностей, и это, наверное, и тяготило меня. Возможно, что основная причина моего нежелания дальнейшей работы над подготовкой спектакля заключалась в том, что именно в это время я горячо увлёкся гётевским Фаустом, всё время читал его и
Я назвал выше нескольких из своих гимназических учителей, которых считаю интересными людьми, во всяком случае, не обывателями, о которых ни сказки не расскажешь, ни песни не споёшь.
И. С. Коростелёв принадлежал к тем славным русским словесникам, которые, говоря словами Салтыкова-Щедрина, «паче всего любили родную литературу», для которых эта литература была неотделима от русской гражданственности, а её преподавание — от воспитания юношества в духе передовых 229 общественных идей, как они их понимали. И среди моих товарищей — восьмиклассников нашей гимназии — была целая группа, зачитывавшихся по ночам Чернышевским и другой запрещённой тогда литературой. Я в эту группу не входил.
Молодые люди, входившие в эту группу, были тесно связаны с И. С. Коростелёвым; он заботился о них и любил их. Но И. С. Коростелёв любил и меня, поддерживая мои широкие литературные интересы, хотя они были довольно далеки от его собственных. Ведь я был учеником А. Р. Эйгеса не только в математике, я находился под его большим влиянием и в области своих литературных, эстетических и философских вкусов. А. Р. Эйгес дал мне прочитать книжку Брюсова «Испепелённый», посвящённую Гоголю, а также книги Мережковского о Гоголе, Толстом и Достоевском. Всё это была критическая литература, совершенно нового для меня стиля, не похожая на русских критиков-классиков, и эта литература произвела на меня огромное впечатление, сказавшееся и на том, как я теперь писал свои ученические сочинения по русской литературе в восьмом классе. Считаю своим долгом отметить, что И. С. Коростелёв, от которого мои новые точки зрения были очень далеки, проявил по отношению к ним полную широту и терпимость и
Другим центром музыкального образования в Смоленске, правда, лишь в области фортепианной музыки, был фортепианный класс Евгении Ильиничны Гуревич, окончившей с медалью Петербургскую консерваторию у известной пианистки Малоземовой, ученицы Антона Рубинштейна. Из фортепианного класса Е. И. Гуревич, в частности, вышел И. Михновский, впоследствии окончивший аспирантуру у К. Н. Игумнова и ставший известным пианистом; Михновский, уже будучи известным музыкантом, всегда считал себя учеником Е. И. Гуревич. Картина музыкальной жизни Смоленска была бы не полна, если бы я не упомянул о проживавшей в нём превосходной виолончелистке Юлии Николаевне Сабуровой,
В Смоленске часто случались концерты самых выдающихся музыкантов. Среди них были: певцы Собинов и Шаляпин, скрипачи Сарасате, Кубелик, Губерман, пианисты Гофман, Падеревский, Рахманинов, Петри, знаменитый дирижёр Артур Никиш, давший в Смоленске концерт со своим оркестром, и многие другие. Эти многочисленные выступления выдающихся музыкантов, конечно, многое вносили в музыкальную жизнь Смоленска и выделяли его среди многих других губернских городов России. Вероятно, основной причиной такой интенсивной артистической жизни города являлось его исключительно выгодное географическое положение на главной железнодорожной артерии, соединявшей Москву с западной Европой. Очень легко было по пути в одном из двух направлений этой артерии задержаться на вечер в Смоленске, дать концерт и потом ехать дальше.
Я с детства слышал дома довольно много музыки. Моими самыми первыми музыкальными впечатлениями, относящимися, наверное, к возрасту
И брат Сергей и сестра Татьяна учились с увлечением музыке у упомянутого выше пианиста А. К. Добкевича. Добкевич умел и любил кружить головы своим ученикам, суля им артистическую будущность. Его ученики с увлечением относились к его преподаванию и преклонялись перед ним. Со всем этим я впоследствии на гораздо более высоком уровне познакомился сам, но уже не в музыкальной, а в математической школе Н. Н. Лузина.
Что касается репертуара, который Добкевич давал своим «продвинутым» ученикам, то тут были, конечно, сонаты Бетховена, но было мало Баха и Моцарта, был и Лист, был и Шуман, но особенное предпочтение отдавалось Шопену. Мои братья Иван и Сергей оба готовили себя к профессиональной артистической деятельности и в соответствии с этим с пренебрежением относились к любительским занятиям музыкой. Этому содействовало и то, что камерная музыка в школе Клин не культивировалась. В результате у учеников Добкевича при всех их пианистических успехах серьёзной музыкальной культуры всё же не доставало. Пренебрежение любительскими занятиями музыкой по моей четырнадцатилетней глупости коснулось и меня, а мои первые уроки музыки совпали с периодом моего увлечения занятиями по геометрии в гимназии у А. Р. Эйгеса. В результате я заявил, что хочу сделаться математиком, что поэтому на занятия математикой отдам настолько много времени и сил, что их уже заведомо не достанет на то, чтобы ещё серьёзно учиться музыке, и я решил бросить занятия музыкой и настоял на выполнении этого решения. Оно было, как я понял только много лет спустя, вероятно, одной из величайших, если не величайшей из всех глупостей, сделанных мною в жизни.
Первый семестр в университете, т.е. осень 1913 г., был скорее разочарованием после радостной и столь полной содержанием гимназической жизни. Всё, что нам рассказывали по математике на первом курсе, было мне известно, и как мне казалось, — известно в гораздо лучшем виде, чем тот, в котором математика первого курса нам тогда преподносилась. И я не знаю, так ли я был неправ. Но я нашёл для себя выход. В уютном круглом читальном зале университетской математической библиотеки я добрался до мемуаров Кантора по теории множеств и начал их с упоением читать. Одной из последних математических книг, данных мне в гимназии А. Р. Эйгесом, был курс анализа Ковалевского и в
Когда я проходил свой первый семестр, Д. Ф. Егоров читал (для студентов старших курсов) интегральные уравнения и вариационное исчисление. Лекции по этим предметам я слушал у него позже, когда уже сам перешёл на соответствующие семестры. Из моих однокурсников я ближе всех познакомился 231 с В. Н. Вениаминовым и М. Я. Суслиным. Вениаминов был милый, вызывавший к себе всеобщее расположение молодой человек с открытым доброжелательным характером. По окончании университета он прошёл аспирантуру у И. И. Привалова, специализировавшись на теории функций комплексного переменного. Потом он сделался видным деятелем высшей технической школы, если не ошибаюсь, профессором Военно-воздушной академии. Но дальнейшая его жизнь развивалась сложно и, далеко не дожив до старости, он покончил жизнь самоубийством.
М. Я. Суслин уже в самые ранние студенческие годы проявил себя как интересный и своеобразный человек. Уже в
В студенческие годы среди математиков моим самым близким другом был старший меня на семь лет Вячеслав Васильевич Степанов. Мы стали действительно очень близкими друзьями, а разница в возрасте выражалась только в том, что В. В. Степанов в мои студенческие годы давал мне много полезных математических советов и в значительной степени руководил моим общим математическим образованием, не давая мне замкнуться только на непосредственно интересовавших меня вопросах теоретико-множественного характера. Следуя советам В. В. Степанова, я весною 1914 года стал участником математического семинара Д. Ф. Егорова, который в этом году имел своей темой бесконечные последовательности.
Работа в семинаре Д. Ф. Егорова велась в нескольких параллельных группах. Первая, самая элементарная, занималась числовыми последовательностями и рядами, вторая группа (я входил именно в неё) называлась: последовательности функций. Здесь изучались работы Осгуда, Асколи, Арцела о равномерной и неравномерной сходимости, а также самое начало классификации Бэра. Третья группа была посвящена расходящимся рядам, четвёртая — сходимости в среднем и гильбертову пространству, пятая — сходимости по мере и различным дополнительным вопросам, в частности, здесь была и теорема Егорова, доказанная два года назад и примыкающие к ней новейшие результаты.
Каждая группа готовила один или два доклада, которые делались на соответствующем пленарном собрании семинара. Семинар Д. Ф. Егорова занимал видное место в математической жизни Москвы, на его пленарные собрания приходили, как правило, все математики Москвы, активно занимавшиеся или следившие за развитием науки и собрания эти в некотором роде конкурировали с собраниями Московского математического общества. Собрания отдельных групп происходили на квартире у Дмитрия Федоровича и имели, так сказать, камерный, интимный характер. Мой доклад на общем собрании семинара был посвящён классификации Бэра, и с него и начались мои систематические занятия этим кругом вопросов: я принялся за серьёзное изучение знаменитого большого мемуара Лебега о функциях, представимых аналитически, и за размышления, с ним связанные, например, об условиях, когда последовательность функций данного класса имеет предельную функцию не большего класса.
В моей жизни я как следует прочитал очень небольшое число математических книг и работ. Среди них были: уже упоминавшиеся книжка Бэра 232 и основные мемуары Кантора, затем только что названный мемуар Лебега, в сущности, положивший начало дескриптивной теории функций и множеств. Этому мемуару было у меня посвящено всё лето 1914 г., как обычно, проведённое мною в нашем Михееве.
Ещё с лета 1913 г. я привык заниматься математикой под музыку моих братьев, пианиста Сергея и скрипача Ивана; я забирался в комнату, в которой
Всё моё настроение летом 1914 г. находилось под впечатлением сначала надвигавшейся, а потом разразившейся войны. Я её воспринимал как страшную трагедию для всего человечества. Как трагедию я воспринимал прежде всего самую неспособность так называемых великих держав предотвратить разразившееся мировое побоище. Лето 1914 г. было засушливое, кругом горели леса и запах гари вносил ещё и свой дополнительный оттенок в общее и без того мрачное настроение.
Летом 1915 г. я взял себе очень хорошо оплачиваемый частный урок. Мои родители сначала возражали против этого урока, но я настоял на своём. У меня было твёрдое правило: деньги, получаемые от родителей, я тратил только на то, чтобы жить в Москве в хорошей комнате и иметь безукоризненно доброкачественный стол. Все остальные свои расходы: на одежду, на книги, на развлечения (т. е. на театральные и на концертные билеты, составлявшие в общем не такую уж малую сумму — я не пропускал ни хороших концертов, ни хороших театральных постановок) считал необходимым покрывать из собственного заработка и поэтому в студенческие годы всегда давал частные уроки.
Летом 1915 г. я готовил одного молодого человека на аттестат зрелости и для этого должен был через день ездить из Ярцева в Смоленск и заниматься часа три с моим учеником, который был всего на два года моложе меня. Летом 1915 г. хлынула волна беженцев из западных губерний России, и Белорусская (тогда называвшаяся Александровской) железная дорога, на которой лежит Ярцево, была крайне переполнена, а движение на ней сделалось очень нерегулярным. Случалось, что поезд, которым я со своего урока должен был возвращаться к себе домой в Михеево, вместо восьми часов вечера отходил в час ночи и соответственно приходил в Ярцево в третьем часу утра. В этих случаях я остаток ночи проводил на сеновале и потом сразу шёл купаться. Такие утра мне очень нравились.
Вообще же лето 1915 г. было одним из замечательнейших в моей жизни. Оно представляло собой один из моментов наивысшего жизненного подъёма, который я когда бы то ни было испытал. Дело в том, что в это лето я получил свой первый действительно значительный научный результат: я решил проблему мощности борелевских множеств и построил в связи с этим так называемую
Всё, что было со мною в это лето — и напряжённые размышления, и внезапные интуитивные озарения, и переполненные поезда, и купанье на рассвете, и соната Грига — всё сливалось в одно, и этим одним была наполнена до краёв чаша жизни и переживание радости этой жизни и того восторга, который влила в неё математика, которую я уже не только воспринимал, но и активно начал строить.
Задача решить вопрос о мощности борелевских множеств была мне поставлена Н. Н. Лузиным весною 1915 г., после того как я передоказал уже известный результат о мощности всех множеств
С Н. Н. Лузиным я познакомился осенью 1914 г., после того как он вернулся из длительной научной заграничной командировки. О моём чрезвычайно сильном впечатлении от первой встречи с Н. Н. Лузиным рассказано в моей лекции «О призвании учёного», изданной отдельной брошюрой и перепечатанной во втором томе моих сочинений 1.
Взявшись за решение поставленной мне Лузиным общей проблемы, я начал с частного случая борелевских множеств низших классов и стал доказывать, что всякое несчётное множество
С того самого времени, когда Лебег в своём знаменитом мемуаре 1905 г. провозгласил, что в математике фактически не существует множеств, кроме борелевских, вопрос об их мощности воспринимался как один из центральных во всей теории множеств и его решение рассматривалось как большое открытие. На мой доклад
Эта касающаяся меня терминологическая деталь была по живым следам отмечена в статьях М. А. Лаврентьева и Л. А. Люстерника, посвящённых истории Московской математической школы, а позже и в статье Л. В. Келдыш. Мне этот вопрос о моём приоритете в данном случае никогда не был безразличен, ведь он касался моего первого и (может быть, именно поэтому) самого дорогого мне результата.
Много лет спустя Н. Н. Лузин стал называть
Как только было доказано, что всякое
Когда Урысон и я летом 1924 г. были у Хаусдорфа и говорили с ним много, в частности, и о дескриптивной теории множеств, Хаусдорф в упор задал нам вопрос: как же надо называть новые множества, которые Лузин всюду пропагандирует под названием аналитических? Я твёрдо ответил Хаусдорфу, что Суслин (уже умерший почти
В январе 1917 г. в Comptes Rendus Парижской Академии наук была опубликована отредактированная Н. Н. Лузиным и переведённая им на французский язык заметка Суслина, в которой излагались его замечательный пример
Зиму 1915–1916 гг. мы с Сашей Богдановым прожили вместе, снимая комнату со столом в Хлебном переулке. К весне студентов начали призывать и направлять в военные училища, имея в виду последующее по окончании училища производство в офицеры. В военное училище поступил и Саша. Окончив его в начале 1917 г. он офицером был отправлен в воинскую часть — сначала пехотную, но скоро был переведён в артиллерийскую часть, расквартированную в маленьком городке Новгород-Северске Черниговской губернии. Что касается меня, то после проведённого в Михееве лета 1916 г. я поселился у своего брата Михаила Сергеевича, у которого прожил до конца 1917 г., лишь на лето уезжая в Михеево.
В самом конце 1917 г. я переселился от брата на Зацепу, где мне удалось снять хорошую комнату с полным пансионом в семье железнодорожников. В то время уже начавшихся продовольственных затруднений это было большой удачей. Всю эту зиму я преподавал в двух женских гимназиях: в гимназии С. Н. Фишер, помещавшейся в одном из переулков Остоженки (ныне Метростроевская) и в гимназии Винклер на Чистых прудах. Мои уроки в обеих этих гимназиях имели такое расписание, что заполняли
В качестве научной проблемы для размышлений Н. Н. Лузин поставил передо мною не более и не менее как континуум-проблему в её общей формулировке. Я стал думать над ней все имевшиеся для математических занятий три дня в неделю. Я сформулировал для себя следующую аксиому, казавшуюся мне несомненно верной: каждому трансфинитному
Мне стало ясно, однако, что моя работа над континуум-проблемой кончилась тяжёлой катастрофой. Я почувствовал также, что уже не могу перейти в математике, так сказать, к очередным делам, и что в моей жизни должен наступить
В Новгород-Северске Саша Богданов сразу же ввёл меня в семейство Ассинг, в котором сам чувствовал себя как дома. Семейство это состояло из двух сестёр лет пятидесяти и немногим более молодого женатого брата. Из сестёр Ассинг одна была хорошим врачом, лучшим представителем своей профессии в городе, другая была увлечённым педагогом дошкольного воспитания и руководила детским садом. Брат, Анатолий Анатольевич Ассинг, был типичным чеховским интеллигентом из разорившихся (да и всегда не очень богатых) дворян, человеком без определённой профессии. В последнее время он занимался фотографией, причём преимущественно цветной, находившейся тогда в зачаточном состоянии. Однако подлинным и притом действительно горячим увлечением Анатолия Анатольевича, заполнявшим всю его не очень устроенную жизнь, был театр. У А. А. Ассинга было много знакомых среди артистов московских Художественного и Камерного театров. Знакомства эти сложились у него ещё смолоду, до революции. Среди артистических знакомых Ассинга надо прежде всего назвать крупного артиста Художественного театра Илью Матвеевича Уралова, бывшего в течение многих лет в Художественном театре бессменным исполнителем роли городничего в гоголевском «Ревизоре». Уралов был сам родом из Новгород-Северска и в 1918 г. жил там. Из артистов-художественников хорошим знакомым А. А. Ассинга был и Н. Г. Александров, а из артистов Камерного театра особенно Церетели. Они и другие артисты обоих названных театров были частыми гостями дома Ассингов в предреволюционные годы и в первые годы после Октябрьской революции. В частности, летом 1918 г. я познакомился у Ассингов в Новгород-Северске с руководителем Камерного театра Александром Яковлевичем Таировым. При таких условиях любительский театр Ассинга, не имел недостатка в консультантах, да и в хороших артистах — гастролерах. Вскоре после моего приезда в Новгород-Северск летом 1918 г. я застал в ассинговском театре постановку «Ревизора» с Ураловым в роли городничего, женой Уралова (тоже профессиональной актрисой) в роли Анны Андреевны и Сашей Богдановым в роли Хлестакова. У Саши были несомненные артистические способности и (как считал, в частности, такой авторитетный судья как И. М. Уралов) Хлестакова Саша сыграл превосходно. Впоследствии ему пришлось играть Алешу Карамазова в постановке «Братьев Карамазовых» артистами Художественного театра. Я никогда не имел ни артистических способностей, ни склонностей; но я пробовал свои силы на режиссёрском поприще и моим высшим достижением на нём стала постановка «Привидений» Ибсена, которые я после этого всю жизнь знал почти наизусть. Но «Привидения» я ставил уже в Чернигове.
Весною 1919 года мы с Сашей Богдановым уже были привлечены к организации Черниговского советского драматического театра: Саша в качестве актёра, а я в должности руководителя театральной секции подотдела искусств Черниговского отдела народного образования. На должность главного 237 режиссёра Черниговского театра удалось привлечь из Киева очень хорошего, несомненно, талантливого режиссёра Константина Тимофеевича Бережного, работавшего некоторое время под руководством знаменитого Константина Александровича Марджанова (Марджанишвили). Бережной был широко образованным, разносторонним режиссёром с большой инициативой, режиссёрской фантазией и выдумкой. Такой режиссёр был большим приобретением для Черниговского театра. За лето 1919 г. он успел поставить ряд интересных пьес. Среди них были и «Ревизор», и одна пьеса А. Н. Островского. Были, как уже упоминалось, «Привидения» Ибсена (постановка, порученная мне), была очень трудная в режиссёрском отношении революционная пьеса Верхарна «Зори», была интересно осуществлённая постановка «Жизнь человека» Л. Андреева и др.
Весной 1919 г. Саша Богданов обвенчался с приехавшей для этой цели в Чернигов из Новгород-Северска Юлией Ивановной Лакида. Семейство Лакида было коренным новгород-северским семейством, проживавшим дом о дом с Ассингами. Оба семейства находились между собою в большой дружбе и постоянном общении. Семья Лакида состояла из родителей, каждому из которых было свыше 60 лет, одного сына и четырёх дочерей. Юлия Ивановна была одной из младших среди них.
Такую сердечность и доброжелательность к людям, такое гостеприимство как в доме Лакида, редко где встретишь. Всё в этом доме было лирично, старомодно и патриархально, а часы в этом доме прежде чем начать бить, хрипели, свистели и гудели на столь многие голоса, точно собирались рассказывать длинную повесть из гоголевских времен. С Лакидами и я, и ещё до меня Саша Богданов близко познакомились, когда жили в Новгород-Северске, и тогдашняя Сашина дружба с Юлией Лакида нашла своё естественное завершение в заключённом теперь браке.
В разгар лета 1919 г. в Чернигов на несколько дней приезжал Л. В. Собинов. Он приехал из Киева, где был заведующим отделом искусств Украинского народного комиссариата просвещения. Наш Черниговский подотдел искусств находился в подчинении Украинского отдела, так что Собинов был нашим прямым начальником. Он и приехал в Чернигов для ознакомления с постановкой у нас театрального дела, так сказать, как ревизор. Под председательством Собинова состоялось заседание, на котором я, как заведующий театральной секцией, сделал отчётный доклад. Собинов интересовался всеми деталями жизни нашего театра, предлагал в нужных случаях свою помощь и, вообще, докладывать ему о нашем театре было очень приятно. Во всей его манере себя держать у Собинова не было и тени того, что он — значительное начальствующее лицо, ни того, что он — великий артист. Большей простоты и скромности в обращении, в частности, с нами, совсем молодыми людьми, участвовавшими в этом заседании, трудно было себе представить. В заседании участвовал, конечно, и К. Т. Бережной, которого Собинов знал по Киеву.
Совсем незадолго до приезда Собинова в Чернигов я ездил в Москву также по делам нашего театра, и был по их поводу принят А. В. Луначарским, а также заведующим ТЕО (театральным отделом Наркомпроса РСФСР). В Москве нам была оказана материальная помощь и по части материала для декораций и снабжения литературой. Естественно, что я доложил Собинову и о своей поездке в Москву. Во время своего пребывания в Чернигове Собинов дал подряд три концерта. Они происходили в зале нашего театра, преобразованного под театральный зал из зала бывшего дворянского собрания. Выступление в этом зале дало Собинову повод познакомиться с условиями нашей сцены и её оборудования, в детали которого он с интересом входил. Излишне говорить, с каким восторгом черниговская публика принимала Собинова. Программы всех трёх концертов были огромные. Кроме того, Собинов 238 как артист всегда отличался своей доступностью. Он никогда не заставлял себя упрашивать и всегда много и охотно пел «на бис». Особенно ли ему понравилась черниговская публика (с чего бы это?) или он находился в «особом ударе», но на этих черниговских концертах он пел действительно без конца и все концерты кончались глубокой ночью.
Я много слышал Собинова в Москве, начиная с первого курса университета. Я не пропускал его концертов и многократно слушал его в Большом театре. На «Евгении Онегине» я бывал по крайней мере два раза каждый год, в начале и в конце каждой зимы, и всегда выбирал спектакли с участием Собинова. Пение его я всегда воспринимал как некоторое чудо. В нём была, с одной стороны,
Возвращаюсь к черниговскому лету. Кроме моих занятий, связанных с театром, я летом 1919 г. был, как и предшествующую зиму, занят чтением публичных лекций на литературные темы. Это были лекции о Гёте (мой гимназический опыт не пропал даром), Гоголе, Ибсене, Гамсуне и Достоевском. Мои лекции имели большой успех, и не только в Чернигове, но и в некоторых других городах, куда я с ними выезжал, в частности, в Киеве.
В целом в Чернигове мне жилось хорошо и приятно среди дружески расположенных ко мне разнообразных и интересных людей. Но над этим идиллическим существованием постепенно сгущались тучи: деникинские войска шли и шли на север, и угроза, что они дойдут до Чернигова, ещё недавно казавшаяся невероятной, приобретала реальность.
В октябре 1919 г. деникинцы вошли в Чернигов. Саша Богданов, как офицер, сразу же был забран в армию. Через несколько дней я был на улице схвачен
Я почувствовал облегчение, когда меня наконец отвели в помещение для арестованных, где я провёл всю ночь. На следующий день к моей большой радости Саша
Мы с Сашей простились и больше уж никогда не видались. Через несколько лет я узнал, что он в конце концов оказался в Париже и занимался там артистической деятельностью. Некоторое время ему посчастливилось даже играть с той группой артистов Московского художественного театра, которая
Итак, меня отвели в тюрьму, где я и пробыл примерно с неделю. Из деталей пребывания в тюрьме отмечу лишь, что мне там впервые пришлось познакомиться с вошью, что мне, привыкшему ежедневно мыться с ног до головы (хоть и холодной водой, и часто в очень неблагоприятных условиях), было особенно неприятно.
Моё дело разбиралось военным судом (да никаких гражданских властей деникинцы в Чернигове и не успели завести). Несколько раз меня вызывали к следователю. Это был офицер средних лет, чина его я не разглядел, во всяком случае не помню. В отличие от того, что происходило при моём аресте, следователь вёл себя со мной корректно и не позволял себе никаких оскорблений. 239 На мой вопрос, в чём я обвиняюсь, он мне сказал: «Вы добровольно, активно и энергично сотрудничали с большевиками, этим деятельно поддерживали Советскую власть и содействовали её популярности». Особенно мне ставилось в вину, что я читал не только публичные лекции, но и лекции в агитпросвете: это считалось особенно злокачественным. Один из своих допросов следователь закончил запомнившимися мне словами: «Если русская интеллигенция будет себя вести так, как Вы, то большевики будут управлять Россией и через шесть лет». На эти слова я ничего не ответил.
Я уже упоминал, что мои публичные лекции имели большой успех — и при этом в различных слоях населения. Были среди моих слушателей и такие, которые имели доступ к влиятельным в то время кругам. Нашлись люди, которые за меня хлопотали и они достигли важного результата: моё дело из военного суда передали в гражданский, а меня, до рассмотрения дела в гражданском суде, освободили из тюрьмы. Но до того, как деникинские гражданские власти успели прибыть, Чернигов был занят советскими войсками. Этим эпизод с моим арестом и закончился.
Наступил ноябрь 1919 г., я по-прежнему читал лекции, но уже не публичные, а в открывшемся тогда в Чернигове Педагогическом институте, лекции и по литературе, и по математике. Во время одной из таких математических лекций я почувствовал сильный озноб, с трудом дочитал лекцию до конца и с ещё большим трудом добрался пешком до дому. Я заболел сыпным тифом. Форма болезни у меня была тяжёлой, и я две недели был без сознания. Всего я в больнице пролежал шесть недель.
После моего выздоровления я почувствовал необыкновенный прилив бодрости и жизнерадостности. И тут я сразу и
К началу осени 1920 г. я наконец вернулся из Новгород-Северска в Москву, где в полном смысле слова был встречен как возвратившийся «блудный сын». Особенно сердечно и тепло меня приняли В. В. Степанов и Д. Ф. Егоров. Тут же было решено, что я сразу же приступлю к последовательной сдаче магистрантских (аспирантских) экзаменов. Программы этих экзаменов составлялись мною при большом консультативном участии В. В. Степанова и утверждалась Н. Н. Лузиным, который продолжал быть моим официальным руководителем. Всю зиму 1920–1921 гг. я фактически жил в Смоленске у родителей, ежемесячно приезжая примерно на неделю в Москву, для сдачи очередного экзамена.
Программы магистрантских экзаменов находились под верховным наблюдением Д. Ф. Егорова и охватывали всё основное в математике того времени. Овладевшие этими программами могли по праву считаться образованными математиками.
На один из очередных экзаменов я поехал в Москву в начале двадцатых чисел ноября.
По возвращении в Смоленск я узнал, что мой отец тяжело заболел. Он скоро понял, что болен серьёзно и лёжа в постели дома, сначала писал, а потом диктовал письма своим сотрудникам и друзьям в Губздраве, обращаясь к ним с просьбой в случае его смерти позаботиться о моей матери. Врачи предполагали у отца брюшной тиф, но он сам думал, что болен сыпным тифом. Во всей России в это время была эпидемия сыпного тифа. В Смоленской больнице всё, что только возможно, было превращено в сыпнотифозные отделения. Мой отец не только ежедневно проводил часы в этих отделениях, но и посещал их по ночам, видя в этом свою обязанность старшего врача. Был он и очень утомлён. Зная всё это, отец понимал, что ему нетрудно было заразиться. За день до моего приезда мой отец с вполне определившимся диагнозом «сыпной тиф» 240 был помещён в больницу. Когда я пришёл к нему, он меня узнал и сказал мне несколько слов. Но сознание у него было уже неясное и вскоре он его совсем потерял. В два часа ночи с 1 на
В 1922–1938 гг. я каждый месяц, за исключением месяцев, проведённых мною за границей или в отпуске, на
Осенью 1920 г. в математическую жизнь Московского университета деятельно включился О. Ю. Шмидт (в Москву из Киева он переехал уже в 1918 г.). При руководящем участии О. Ю. Шмидта был организован при Московском университете Институт математики и механики. Его первым директором стал Д. Ф. Егоров, который и пробыл в этой должности до конца 1930 г. Президентом Московского математического общества в это время (с 1905 г.) был Николай Егорович Жуковский. В марте 1921 г. он умер, лишь на совсем короткое время пережив единственную дочь (умершую двадцати с небольшим лет). Н. Е. Жуковского сменил на посту президента Общества Б. К. Млодзеевский. Он умер в январе 1922 г., уступив своё президентство Д. Ф. Егорову, который оставался президентом Математического общества, как и директором Института до конца 1930 г. Таким образом, все двадцатые годы Д. Ф. Егоров руководил и Институтом математики и механики и Математическим обществом, и поэтому стоял во главе всей московской математики. Это время, несомненно, было не только одним из самых продуктивных, но и одним из самых светлых периодов жизни математической школы Московского университета.
В начале осени 1931 г. жизнь Д. Ф. Егорова тяжело и горько закончилась в одной из клиник Казанского медицинского факультета, куда он был переведён лишь за несколько дней до своей смерти. Могила Д. Ф. Егорова находится на казанском кладбище рядом с могилой Лобачевского. Заботами казанских математиков могила Егорова долгое время поддерживалась в полном порядке (как и могила Лобачевского). Я надеюсь, что это продолжается и сейчас.
Зимой 1915–1916 гг. при одной из своих кратковременных поездок в Москву А. Р. Эйгес познакомил меня со своей младшей сестрой Екатериной Романовной и двумя (тоже младшими) братьями, из которых один был художник, а другой окончил Московскую консерваторию как пианист, но стал заниматься литературой. Оба брата и сестра Екатерина Романовна проживали вместе, снимая квартиру в одном из переулков Новинского бульвара (теперь 241 улица Чайковского). Постоянно бывал у них В. В. Степанов, а также пианист, ученик Игумнова Добровейн, впоследствии известный дирижёр. (Именно он играл В. И. Ленину «Аппассионату» Бетховена.)
В Московском доме младших Эйгесов и я сделался постоянным гостем и это продолжалось до самого моего отъезда из Москвы в Новгород-Северск (летом 1918 г.). Особенно хорошо за это время я познакомился с Екатериной Романовной. Когда я осенью 1920 г. вернулся в Москву, это знакомство возобновилось с прежней теплотой. Но за 1918–1919 гг. в жизнь Екатерины Романовны вошло новое лицо, и им был Сергей Есенин. Екатерина Романовна мне показала толстую тетрадь своих стихов, всю испещрённую пометками, собственноручно сделанными характерным почерком Есенина. Тут были и отдельные критические замечания, но были и целые строчки, прочёркнутые рукой Есенина с им же предложенными изменёнными вариантами.
К сожалению, эта тетрадь, которая, несомненно, представляла бы интерес для литературоведов — специалистов по Есенину, безвозвратно погибла. В начале или в середине марта 1921 г. Екатерина Романовна познакомила меня с Есениным и мы провели часть вечера вместе. Сколько времени продолжалось это свидание, я сейчас не помню. Но оно мне запало в душу: я почувствовал Есенина как человека, мне кажется, я почувствовал его мягкость, нежность и
Новогоднюю ночь на первое января 1926 г. я провёл в Голландии в обществе Брауэра и людей, составлявших тогда его и моё ближайшее окружение. «Среди них была Эмми Нётер. Это была одна из самых приятных встреч Нового года во всей моей жизни. Я не подозревал тогда, конечно, что в эту ночь умирает Есенин. Но когда через день я прочёл известие о его смерти в голландских газетах,
К этому времени (зима 1920–1921 гг.) количество учеников Н. Н. Лузина чрезвычайно возросло; они составили обширный коллектив, знаменитую Лузитанию и, как сказал Л. А. Люстерник, настали: «Дни незабвенной Лузитании, дни вдохновений и исканий».
В Лузитании мужской и женский пол были представлены в количественном отношении примерно поровну. В этом коллективе выдвинулось одно действительно яркое женское дарование: Нина Карловна Бари. Несколько лет позже, при новом значительном пополнении состава учеников Н. Н. Лузина прибавилась ещё Людмила Всеволодовна Келдыш.
Однако, по моему убеждению, годами высшего расцвета Н. Н. Лузина как математика; да и как человеческой личности были не годы Лузитании, а непосредственно предшествовавшие годы:
Узнав Лузина в эти самые ранние творческие его годы, я узнал действительно вдохновенного учёного и учителя, жившего только наукой и только для неё. Я узнал человека, жившего в сфере высших человеческих духовных ценностей, в сфере, куда не проникает никакой тлетворный дух.
Выйдя из этой сферы (а Лузин потом вышел из неё), человек неизбежно подпадает под власть тех сил, о которых Гёте сказал:
| Ihr führt in's Leben uns hinein, Ihr lasst den Armen Schuldig werden Dann überlasst Ihr ihn der Pein, Denn jede Schuld rächt sich auf Erden. |
Вы вводите нас в жизнь, Вы делаете, беднягу виновным. Потом вы предаёте его на муку, Потому что на земле отмщается всякая вина. |
Лузин в последние годы своей жизни до дна испил горькую чашу отмщения, о котором говорит Гёте.
Одновременно со мною в ту же зиму 1920–1921 гг. магистрантские экзамены сдавал и П. С. Урысон. Программы этих экзаменов у нас были почти тождественные и мы скоро привыкли сдавать их в одни и те же дни, соответственно по одним и тем же предметам. Как уже упоминалось, за несколько дней перед каждым экзаменом, приезжая из Смоленска, я встречался с Урысоном и мы устраивали друг другу репетицию каждого экзамена. Иногда в этих «генеральных репетициях» принимал участие и В. В. Степанов, к этому времени хорошо познакомившийся и с Урысоном. Наша метода совместного сдавания экзаменов получила своё краткое выражение в формулировке В. В. Степанова: П. С. А. и П. С. У., или, сокращенно, ПСЫ, сдают свои экзамены «голова в голову», а только что упомянутое множественное, или, вернее, двойственное число получило всеобщее распространение в Лузитании.
Урысон любил музыку не меньше, чем я, а в Москве и в этот, и в следующие годы происходило огромное количество хороших концертов. Пожалуй, никогда на моей памяти Москва в такой степени не была напоена серьёзной музыкой, как в двадцатые годы. Концерты шли циклами: все симфонии Бетховена, все симфонии Чайковского, все бетховенские квартеты, все фортепианные сонаты Бетховена
30 марта мы пошли в Бетховенский зал, помещавшийся в здании Большого театра, на вечер бетховенских скрипичных сонат. После концерта один из нас проводил другого до дому, и мы в эту ночь провожали друг друга по очереди: то Урысон провожал меня, то я его. Так мы и проделывали в обоих направлениях путь между Пименовским переулком (недалеко от площади Маяковского), где жил Урысон, до Кисловского переулка (рядом с Консерваторией), где жил я у своего брата. Я не знаю, сколько раз мы проделали эти колебательные движения. Но когда мы наконец
Через день произошло другое событие в моей жизни:
Летом 1921 г. группа участников Лузитании сняла дачу в деревне Бурково недалеко от Болшева, на берегу реки Клязьмы, вблизи места, где эта река превращается в Образцовский пруд, о котором скажу немного дальше.
В одно августовское утро Урысон и я оба были на бурковской даче и отправились купаться на Клязьму. Во время купанья Урысон рассказал мне своё определение размерности, к которому только что пришёл, а потом начал мне подробно излагать основные положения теории размерности. В результате мы тогда провели на реке подряд несколько часов жаркого солнечного дня. Я, таким образом, присутствовал при зарождении одной из прекраснейших глав топологии — урысоновской теории размерности. Когда Урысон кончил своё долгое математическое повествование на берегу реки Клязьмы, нам обоим было уже пора возвращаться в Москву. 243
В начале мая следующего 1922 г. мы с Урысоном вдвоём сняли комнату в дачном посёлке Старые Горки, также на самом берегу Клязьмы, но уже на другом, почти точно против Буркова, лишь немного выше по течению. В этой дачной комнате мы прожили всё лето 1922 г. В это лето, бывшее для нас обоих временем напряжённой математической работы, мы и сочинили наш совместный «Мемуар о компактных топологических пространствах». Скажу, как шла наша совместная работа над этим «Мемуаром», а кстати, и вообще наша жизнь этим летом.
Это лето, как и предшествовавшее ему, было на редкость жаркое и солнечное. Мы сразу после пробуждения от сна отправлялись на реку, она была буквально в нескольких шагах от нашего дома. С собою мы брали большое количество чёрного хлеба и сливочного, слегка подсоленного масла: оно у нас было в изобилии (мы оба получали «академический» паёк). На этом пищевом рационе мы существовали примерно до
Как уже сказано, часа в 3–4 мы возвращались домой. Там мы варили себе и пили крепкий кофе с молоком (к нему были хлеб, масло и сыр). Потом мы сами изготовляли себе мороженое; мороженица у нас была, яйцами и молоком нас обильно снабжала хозяйка в обмен на отдаваемую нами ей полностью мясную часть нашего пайка. Во время длительной операции приготовления мороженого мы опять беседовали, главным образом на математические темы.
Я уже говорил, что мы довольно много плавали на лодке по Клязьме, и главным образом по Образцовскому пруду. Своей лодки у нас не было, и мы должны были обратиться с просьбой позволить нам пользоваться его лодкой к жившему на даче по соседству с нами профессору гистологии Московского университета В. Е. Фомину, отцу известного (ныне покойного) математика Сергея Васильевича Фомина, которому было тогда
Через несколько дней профессор В. Е. Фомин сообщил нам, что говорил с Д. Ф. Егоровым, и что Дмитрий Федорович сказал ему о нас следующее:
Примерно в конце июля в нашей жизни произошёл досадный эпизод: Урысон заболел малярией, очевидно, приобретённой прошлым летом тут же около Болшева на лузитанской даче; в оба жарких лета 1921, 1922 гг. в окрестностях Москвы было много малярии, а Болшево слыло особо малярийной местностью. Врачи (а они были среди членов семьи Урысона) потребовали, чтобы он уехал с нашей дачи и категорически запретили купаться и быть на солнце (а мы и то, и другое делали в течение всего дня). Урысон столь же категорически отказался подчиниться этим требованиям, а стал ежедневно принимать огромные дозы хинина (во всяком случае не меньше грамма в день, кажется, даже больше). Он говорил, что поддерживая в крови постоянную высокую концентрацию хинина, он гарантирует себя от повторения приступа. Приступ действительно не повторился ни в это лето, ни потом. 244 Образ жизни мы продолжали прежний, описанный выше. Я только забыл прибавить, что по вечерам мы ходили в гости на другой берег Клязьмы на лузитанскую дачу, продолжавшую существовать и летом 1922 г.
В это лето я написал ещё одну работу об эквивалентности понятий интеграла в смысле Данжуа и в смысле Перрона. Я её писал в часы между нашим (состоявшим из кофе и мороженого) обедом и вечерней прогулкой на другой берег Клязьмы. Лето 1922 г. было в моей жизни периодом такого же необыкновенного подъёма как семь лет назад лето 1915 г. Я снова почувствовал себя математиком и занимался математикой с упоением и восторгом; и я был счастлив.
Этот подъём продолжался и следующую зиму. Поздней осенью 1922 г. Урысон и я доказали нашу общую метризационную теорему, а за декабрь 1922 г. и первые полтора месяца 1923 г. я написал текст нашего совместного мемуара о компактных пространствах. Редакция его лежала на мне, хотя Урысон (проводивший у меня почти столько же времени, сколько у себя дома), конечно, и в этих редакционных делах принимал постоянное участие. Обсуждали мы их и во время наших ночных прогулок, сделавшихся нашим обычным занятием после концертов, на которых мы
В ноябре 1922 г. я впервые познакомился с Андреем Николаевичем Колмогоровым. Он — тогда
Зимой 1922–1923 гг. по инициативе Урысона у нас возник план о поездке ближайшим летом за границу, в Гёттинген. Для поездки нужны были деньги и мы решили их заработать. (В это время была введена червонная денежная система и существовал свободный обмен советских денег па иностранную валюту; нужно было только иметь, что обменивать.) Мы стали зарабатывать деньги чтением публичных лекций по теории относительности. Мы объявили цикл из четырёх лекций и повторили его в Москве два или три раза в различных аудиториях. Кроме того, мы прочитали эти лекции в Воронеже, Смоленске и, кажется, ещё
В начале мая 1923 г. мы уехали в Гёттинген. Мы были первыми советскими математиками, попавшими за границу. Нас приняли в Гёттингене самым лучшим образом. Мы побывали с визитами у Клейна и Гильберта, у Ландау, Куранта, у Эмми Нётер. Везде приём был самым радушным. Однажды во вторую половину дня, когда я находился дома, со мной случился приступ малярии: и для меня болшевское лето дало себя знать, только со сдвигом на один год по сравнению с Урысоном. Во время этого приступа я был в не совсем ясном сознании и я ничего не мог сообразить, когда к нам в комнату пришла наша хозяйка и сообщила, что нас обоих на завтра приглашает к ужину тайный советник Гильберт. Я сразу же начал принимать ежедневно огромные дозы хинина и делал это всё лето и всю осень 1923 г. Малярийный приступ более не повторялся никогда в моей жизни. На следующий день мы пошли на ужин к Гильберту. За этим первым приглашением последовали многочисленные дальнейшие и к Гильберту, и к Куранту, и к Ландау.
Наше пребывание в Гёттингене было математически очень содержательно. Мы аккуратно слушали лекции: Гильберта по наглядной геометрии, Ландау по аналитической теории чисел, Куранта по уравнениям математической физики. Лекции Гильберта были увлекательны как эскиз большой области математики, сделанный вдохновенно и с большим числом отдельных, всегда 245 интересных, часто остроумных, иногда глубоких замечаний. Внешне эти лекции были беспомощны. Гильберт говорил плохо; кроме того, даже начертить простейшую фигуру он не мог. Однажды он хотел начертить обыкновенный прямоугольный параллелепипед: он неудачно пробовал это несколько раз и, наконец, рассердившись на своего ассистента (им был в это лето Бернайс), сказал ему: «Ну, чего же Вы тут сидите, какой мне толк от Вас!» Бернайс встал и, наконец (тоже без большого блеска) начертил злосчастный параллелепипед. Эти лекции Гильберта были потом изданы в виде книги, получившей широкую известность. Когда около 1930 г. возник вопрос об издании этой книги, Гильберт предложил мне написать к ней прибавление о топологии. Но я не уложился в очень сжатый объём Прибавления и Гильберт предложил мне написать вместо прибавления небольшую отдельную монографию. Она и была мною написана и напечатана с предисловием Гильберта под заглавием «Einfachste Grundbegriffe der Topologie».
Ландау свои лекции читал блестяще, вполне осуществляя высказанное им же самим правило: «Хорошо читать лекции, — значит не стоять беспомощно у доски, а излагать все доказательства так, чтобы их воспринимал каждый из слушателей». Лекции Ландау были интересны, понятны и в то же время так тщательны, что их легко и приятно было записывать. На этих лекциях я выучил не только курс аналитической теории чисел (которую до того практически не знал), но и действительно овладел теорией функций комплексного переменного в направлении, нужном для теории чисел. В целом, курс лекций Ландау я прослушал с большой пользой для своего общего математического развития.
Лекции Куранта достоинствами лекций Ландау не обладали и, относясь к далёкой от меня области математики, особенно меня не увлекли.
Вершиной всего услышанного мною в это лето в Гёттингене были лекции Эмми Нётер по общей теории идеалов. Основу этой теории, как известно, заложил Дедекинд в своей знаменитой работе, опубликованной как одиннадцатое приложение к изданным под редакцией Дедекинда лекциям Дирихле по теории чисел. Эту работу Дедекинда я хорошо знал: Д. Ф. Егоров всегда требовал от хороших молодых математиков её включения в программу магистрантских экзаменов. Эмми Нётер всегда говорила, что вся теория идеалов уже есть у Дедекинда, что всё, что сделала она, Нётер, это только развитие идей Дедекинда. Конечно, самое начало теории заложил Дедекинд, но только самое начало: теория идеалов во всём богатстве её идей и фактов, теория, оказавшая такое огромное влияние на современную математику, есть создание Эмми Нётер. Я могу об этом судить, потому что я знаю и работу Дедекинда, и основные работы Нётер по теории идеалов.
Лекции Нётер увлекли и меня, и Урысона. Блестящими по форме они не были, но богатством своего содержания они покоряли нас. С Эмми Нётер мы постоянно виделись в непринуждённой обстановке и очень много с ней говорили, как на темы теории идеалов, так и на темы наших работ, сразу же её заинтересовавших.
Наше знакомство, живо завязавшееся этим летом, очень углубилось следующим летом, а затем, после смерти Урысона, перешло в ту глубокую математическую и личную дружбу, которая существовала между Эмми Нётер и мною до конца её жизни. Последним проявлением этой дружбы с моей стороны была речь памяти Эмми Нётер на собрании Московской международной топологической конференции в августе
На заседании Гёттингенского математического общества Урысон и я сделали доклады. Доклады прошли с успехом и после них Гильберт предложил 246 нам подготовить краткое изложение наших основных результатов для напечатания в Mathematische Annalen. В ответ на это предложение мы и написали наши четыре короткие статьи, напечатанные в
Гильберт уже несколько лет стоял во главе этого основного немецкого математического журнала, отодвинувшего на второе место знаменитый журнал Крелля (Journal für reine und angewandte Mathematik). Однако, главным редактором Mathematische Annalen официально был всё ещё Клейн и его ассистентом по делам редакции состоял Александр Маркович Островский (учившийся вместе с Б. Н. Делоне и О. Ю. Шмидтом в Киевском университете, а после Октябрьской революции уехавший в Германию, где он преуспел настолько, что сделался приват-доцентом сначала Гамбургского, а потом Гёттингенского университета, несмотря на то, что по его немецкому языку в нём всегда можно было узнать уроженца Украины).
Как и полагалось, мы с Урысоном передали рукописи написанных нами статей Островскому. Они ему не понравились и пролежали у него без движения до нашего следующего приезда в Гёттинген в мае 1924 г. Это в свою очередь очень не понравилось Эмми Нётер, которая настояла на том, чтобы наши статьи немедленно (уже было начало июня 1924 г.) были направлены Брауэру, как члену редакции, ведавшему топологией. Брауэр сообщил свой положительный отзыв об этих статьях и Эмми Нётер, и Гильберту. Эмми Нётер обратила внимание Гильберта на то, что статьи, уже одобренные им, пролежали год без движения. Гильберт вызвал к себе Островского и разговор между ними произошёл в присутствии Эмми Нётер, от которой я и знаю всю эту историю. Островский начал объяснять Гильберту, почему он считает наши статьи неподходящими для Annalen. Гильберт прервал его и резко сказал: «Господин Островский, меня интересует не Ваше мнение о рекомендованных мною статьях, а то, почему они до сих пор не напечатаны». На это Островский смущённо ответил: «Простите, господин тайный советник, что я не сразу Вас правильно понял».
Работы были срочно напечатаны и вышли в конце этого же лета со следующим примечанием редакции: «Во время печатания этих работ редакция получила потрясающее известие о гибели Павла Урысона».
По окончании гёттингенского летнего семестра, в самых первых числах августа, мы с Урысоном отправились в путешествие по Норвегии, единственное большое путешествие, которое нам вообще удалось вместе сделать.
Сначала мы морем отправились из Гамбурга в Ставангер. Наш дальнейший план заключался в том, чтобы пешком пройти из Ставангера до Мольде, более или менее по меридиану с юга на север; но потом мы отказались от того, чтобы пройти участок предположенного пути между Согне-фиордом и Норд-фиордом и перебрались из первого названного фиорда во второй кружным морским путём, на пароходе, побывав по дороге в Бергене. Дело в том, что у нас не было обуви, в которой можно было бы пересечь большой ледник, лежавший на этом участке нашего пешеходного пути. Но и с этим отступлением от первоначального плана мы прошли пешком примерно 500 километров за
Всё наше пешеходное путешествие по Норвегии было для нас одним сплошным удовольствием. Урысон тщательно разработал маршрут по Бедекеру, и мы к вечеру каждого дня приходили к какой-нибудь сельской гостинице, где ужинали, ночевали, вечером отдавали бельё в стирку, которое утром следующего дня надевали чистым. Позавтракав и взяв на дорогу бутерброды, мы снова отправлялись в путь. Обедом нам служили полученные на дорогу бутерброды. Все эти сельские гостинцы были донельзя простыми и непритязательными, но безукоризненно чистыми и кормили в них тоже просто, но сытно и доброкачественно.
Норвегия, по крайней мере в той её части, по которой лежал наш путь, полна озёр с прозрачной, но и летом очень холодной водой. Урысон без труда мог выбирать наш маршрут так, чтобы каждый день нам по пути встречалось по крайней мере одно озеро, а то и больше, так что без купанья у нас не было ни одного дня. Несколько раз мы выходили к морю: купались мы и в Гардангер-фиорде, и в Согне-фиорде, и в Норде-фиорде. Всё это были очень холодные купанья. Только в Мольде-фиорде, к которому мы пришли в конце нашего пути, вода была потеплее: Мольде-фиорд только называется фиордом, в действительности это — широкая и мелководная бухта, лишь узким проливом соединённая с морем. Летом в нём вода прогревается хорошо. Мы там, провели весь заключительный день нашего путешествия и всласть там накупались и погрелись на солнце, почти как год тому назад на Образцовском пруду. Потом мы ночным поездом поехали в Осло, а оттуда сначала пароходом в Гамбург, и далее в Гёттинген.
В Гёттингене мы прожили весь сентябрь, не видя никого из математиков: были каникулы и все разъехались, кто куда. Но замечательная гёттингенская университетская математическая библиотека (знаменитая на весь мир, созданная Клейном Lesezimmer) не закрывалась никогда, и там мы ежедневно проводили не один час. Занимались мы и сами математикой. В частности, я доказал за этот сентябрь свою теорему о
Московская жизнь пошла своим чередом, мало отличаясь от той, которая была прошлой зимой. Была в ней у нас с Урысоном и математика, были и концерты с прогулками после них, продолжалось до середины ноября и систематическое купанье (более поздней зимой мы купались лишь иногда, не ежедневно). Помню однажды на
В наших занятиях общей топологией мы имели большую моральную поддержку Д. Ф. Егорова. Однажды Н. Н. Лузин сказал, что считает теорию топологических пространств малоинтересной и собственно ненужной частью математики, как, впрочем, и теорию идеалов. Дмитрий Федорович твёрдо и даже несколько резко возразил, что всегда считал теорию идеалов важной и нужной, и так же относится и к теории топологических пространств. На этом разговор тогда и кончился. Свой мемуар о компактных топологических пространствах Урысон и я посвятили Дмитрию Федоровичу Егорову и это посвящение напечатано на первой странице оригинального французского издания этого мемуара и воспроизведено оно и в предисловии к вышедшему в виде отдельной монографии русскому изданию этого мемуара.
Я уже упоминал, что в первые годы после Октябрьской революции А. Р. Эйгес переехал в Москву. Свою штатную работу доцента математики 248 одного из московских втузов он стал постепенно совмещать с работой в Ленинской библиотеке, в её отделе рукописей, где он работал над материалами, касающимися Чехова. Чехов сделался основным увлечением Александра Романовича и он много сделал в области всестороннего изучения Чехова, его биографии, его творчества. А. Р. Эйгес хорошо познакомился со всеми видными специалистами по Чехову. Они с большим уважением относились к А. Р. Эйгесу и ценили его вклад в изучение Чехова.
Александр Романович очень любил свою сестру Екатерину Романовну и тяжело переживал неудачу её семейной жизни. Но ни разу в жизни я не слышал и не чувствовал в его отношении ко мне хотя бы намёк на упрёк мне в этом отношении. Отношение Александра Романовича ко мне до самой его смерти в апреле
| УСПЕХИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК | |
К весне 1924 г. у П. С. Урысона и у меня созрело решение организовать топологический семинар, и в мае 1924 г. перед самым нашим отъездом в Гёттинген состоялось первое, организационное собрание этого семинара.
По образцу семинаров Д. Ф. Егорова и наш семинар был открыт в составе нескольких групп. Тематика первой группы была посвящена топологии континуумов и своим активным участником имела А. Н. Черкасова (остальных участников этой группы не помню). Вторая, чисто учебная, группа должна была заниматься топологией поверхностей и в дальнейшей жизни семинара участия не приняла, как и пятая группа, которая (содержа в своём составе В. А. Ефремовича) должна была под руководством П. С. Урысона изучать основной мемуар Пуанкаре по комбинаторной топологии. Четвёртая группа, имея своим активным участником Л. А. Тумаркина (остальных тоже забыл) должна была заниматься теорией размерности. Основным же стержнем всего семинара была третья группа, по абстрактной топологии (по теории топологических пространств). Её участниками были образовавшие тесный дружеский коллектив Н. Б. Веденисов, А. Н. Тихонов, В. В. Немыцкий. Общие интересы (путешествия, древняя русская архитектура и др.) способствовали также возникновению дружеских связей членов «абстрактной группы» с А. Н. Колмогоровым.
Ни одна из групп топологического семинара весною 1924 г. собраться не успела: семинар начал работать лишь в сентябре 1924 г., после смерти П. С. Урысона, уже под моим руководством. Новые мои соруководители по топологическому семинару появились лишь много лет спустя. В настоящее время ими являются Ю. М. Смирнов, А. В. Архангельский, О. В. Локуциевский, Б. А. Пасынков, В. И. Пономарёв, Е. Г. Скляренко, В. В. Фёдорчук, В. В. Филиппов и Е. В. Щепин.
Итак, в мае 1924 г. П. С. Урысон и я во второй раз поехали в Гёттинген. Там мы встретили основных гёттингенских математиков, знакомых нам уже по прошлому году. Среди них я прежде всего должен назвать Куранта и Эмми Нётер, которые сердечно приняли нас как хороших старых знакомых. С большим доброжелательным радушием встретили нас и гёттингенские математики старшего поколения — Э. Ландау, Гильберт и сам Клейн, о чопорной недоступности которого мы столько слышали раньше, но которой в применении к нам мы не заметили ни в прошлом 1923 г., ни в нынешнем 1924 г.
У Куранта мы скоро стали бывать совсем запросто. Зная, что и Урысон и я любим музыку, он
Вскоре, и не один раз, мы приглашались к ужину и к Гильберту, и к Ландау. С Эмми Нётер мы постоянно встречались на знаменитых её прогулках, которые сначала назывались алгебраическими, а после нашего приезда стали называться тополого-алгебраическими. В них участвовало всегда много математической молодёжи. Эти прогулки были прообразом топологических прогулок нашего Московского топологического семинара, хотя и имели другой характер. С Эмми Нётер и с Курантом можно было почти ежедневно встречаться и в университетском (в основном студенческом) купальном заведении на реке Ляйне (см. ниже). Там можно было встречать довольно часто и Гильберта, но не Ландау (который на вопрос, купается ли он, отвечал: «Да, ежедневно, у себя дома в ванне»).
Гёттингенский летний семестр 1924 г. мы с Урысоном проводили хорошо и интересно, полностью участвуя в гёттингенской оживлённой и увлекательной математической жизни. И хотя нам было жаль расставаться с этой жизнью, мы уехали из Гёттингена около 15 июля, т.е. примерно за две недели до окончания семестра, чтобы побывать сначала у Хаусдорфа (в Бонне), а потом у Брауэра (он жил в посёлке Бларикум, километрах в 30 от Амстердама).
И Хаусдорф, и Брауэр принимали нас необыкновенно хорошо и радушно. В Бонне мы с утра отправлялись купаться на Рейн и переплывали его туда и обратно. В целом это купанье продолжалось не меньше трёх часов. Рейн в Бонне широк, и течение в нём очень быстрое. При каждом переплытии его нас сносило вниз по течению на несколько километров, которые потом приходилось компенсировать, возвращаясь пешком по берегу. Как нас (безрезультатно) пытался убедить Хаусдорф, это переплывание Рейна было небезопасным, по Рейну ходили пароходы и баржи (правда не в таком количестве, как теперь). Всю вторую половину дня — с обеда и до позднего вечера — мы проводили у Хаусдорфа, главным образом за математическими разговорами, действительно очень оживлёнными и интересными.
После недельного пребывания в Бонне, мы поехали к Брауэру и прожили в непосредственном соседстве с ним до 29 или
В один из последних двух дней июля мы поехали сначала в Париж, а потом на море в Бретань. Сначала предполагалось, что мы проведём в Париже около недели, но потом под влиянием (особенно моей) постоянной уверенности в том, что la mer est plus belle que les cathedrales 3), этот срок сократился до одного дня. Тем не менее Урысон успел в течение этого дня (мы приехали в Париж рано утром) свести нас и в Лувр, и в Notre Dame, где мы даже лазали на крышу и смотрели знаменитые химеры. Но в памяти моей от этого (первого в моей жизни) дня в Париже остались не химеры, и не Джоконда, и (тем более) не Венера Милосская, а вечер, проведённый в номере маленькой гостиницы, расположенной непосредственно против Сорбонны, кажется на пятом этаже, во всяком случае точно на уровне мансард Сорбонны. В нашей комнатке был балкон. Мы вышли на него. Был 242 поздний тёплый вечер самого конца июля. Весь Париж тонул в уже угасавших лучах вечерней зари. И вот открылось окно находившейся против нас мансардной комнаты, и из этого окна зазвучала музыка:
Ранним утром следующего дня мы поехали поездом Париж –
Между тем волнение на море понемногу усиливалось, и купание наше 15 и 16 августа становилось всё интереснее.
После мгновенного колебания мы погрузились в прибрежную не очень большую волну и
Вытащив Павла на берег и почувствовав в своей руке теплоту от его тела, я не сомневался, что он жив. В это время к нему подбежало несколько человек и стали
Как сейчас, помню, что единственная мысль, которая мне пришла в голову, когда я услышал эти слова, была, что слово fasse есть глагольная форма présent de subjonctif от глагола faire и что наша гимназическая учительница французского языка часто спрашивала у нас эту форму и вообще весь subjonctif.
Прошло ещё некоторое время, и я вошёл в нашу комнату и наконец оделся (до этого времени я оставался в одних плавках). Павел Урысон лежал на своей постели, покрытый простынею, у его изголовья были цветы. Тут я впервые подумал о том, что случилось. В моём сознании с такой отчётливой ясностью возникли все переживания, все впечатления этого лета, да и предыдущих двух лет. Всё это слилось в одно сознание того, как хорошо, как необыкновенно хорошо было каждому из нас всего какой-нибудь час тому назад.
А море совсем разбушевалось. Его рёв, его грохот, его клокотанье, казалось, заполняли всё.
На следующий день я послал телеграммы Брауэру и в Москву моему брату Михаилу Сергеевичу, которого просил сообщить о случившемся семье Урысонов. В тот же вечер я получил ответную телеграмму от Брауэра со словами «Appelez moi où vous voulez» 5). Я попросил Брауэра приехать в Гёттинген, 244 где собирался задержаться по пути в Москву на несколько дней.
19-го августа были похороны. Думая соответствовать желанию отца Урысона, я пригласил раввина для совершения погребального обряда. Что касается самих похорон, у меня осталось впечатление от огромного количества людей, пришедших на похороны, от горы живых цветов на свежей могиле, и от шума моря, слышного и на кладбище.
20-го я уехал из Ба и, задержавшись в Париже на день, 22 августа приехал в Гёттинген, где меня ждали Бpayэр, Курант и Эмми Нётер; Гильберт и Клейн попросили меня придти к ним. Это было моё последнее свидание с Клейном. Летом следующего года он умер.
В самых первых числах сентября я возвратился в Москву. Вместе со мною приехали В. В. Степанов и С. С. Ковнер, бывшие перед тем в Гёттингене. В Москве я поселился у Урысонов и прожил у них до конца 1929 г. В маленькой комнате, которую я занимал в их квартире, происходили и собрания групп моего семинара. Впрочем, потом собрания третьей (абстрактной) группы семинара происходили в большой столовой квартиры родителей Н. Б. Веденисова.
Я говорю о квартире Урысонов. В действительности это была квартира сестры Павла — детской писательницы Л. С. Нейман (издавшей потом свои воспоминания о брате) и её мужа, врача С. М. Неймана. В этой квартире рядом со мною, за фанерной перегородкой, в комнате, ещё гораздо меньшей чем моя, жил тогда восемнадцатилетний племянник Павла Самуиловича, Миша, ныне известный юрист М. С. Липецкер, с которым я до сих пор сохраняю дружеские отношения.
Зиму 1924–1925 гг. мой семинар интенсивно работал. Среди всей группы первых его участников своим особенно ярким математическим талантом выделился Андрей Николаевич Тихонов. Он довольно скоро начал думать над трудной задачей: всякое ли нормальное пространство является подпространством некоторого бикомпакта? Размышления А. Н. Тихонова над этой задачей привели его не только к её положительному решению, но и к нескольким другим фундаментальным топологическим открытиям. Первым из них является понятие так называемого тихоновского
Несчётные кардинальные числа получили, так сказать, действенное право гражданства в топологии с возникновением теории бикомпактных топологических пространств. Вместе с тем начала наполняться конкретным математическим содержанием и та трансфинитная математика, о которой, как о райском саде, открытом нам абстрактной теорией множеств, так много и так вдохновенно любил говорить Гильберт. Работы А. Н. Тихонова подняли овладение этим райским садом на существенно новую ступень. Несчётномерные тихоновские кубы, с их гранями, проекциями на них, связанная с ними факторизация непрерывных отображений — всё это стало началом новой несчётномерной геометрии, которую уже в наш сегодняшний день начал строить Е. В. Щепин, дополнив совершенно новой и своеобразной несчётномерной геометрической топологией ту счётномерную топологию гильбертова куба и гильбертовых многообразий, которая так богато развилась в последние десятилетия.
В то время, когда А. Н. Тихонов делал свои топологические открытия, он только что достиг своего двадцатилетия. Я не знаю, понимал ли он в какой-нибудь степени всю значительность полученных им результатов и интересовался ли он вообще этим. Более бескорыстного, я бы сказал, наивного увлечения математикой, чем у А. Н. Тихонова в эти годы трудно себе представить. Основными чертами его характера были скромность, тёплый доброжелательный юмор и редкие незлобливость и добродушие. Он был всегда в хорошем настроении, и всегда при общении с ним всем было хорошо. Таким мне запомнился А. Н. Тихонов в своей ранней юности.
Из других членов «абстрактной» группы запомнился Николай Борисович Веденисов, который, получив несколько хороших математических результатов и с успехом начав преподавание в университете, в самом же начале Отечественной войны ушёл в ополчение и вскоре погиб.
Математические интересы В. В. Немыцкого были направлены главным образом в сторону вопросов, пограничных между абстрактной топологией и качественной теорией дифференциальных уравнений. В результате его занятий в этом направлении возникла известная совместная монография В. В. Немыцкого и В. В. Степанова по качественной теории дифференциальных уравнений, а также его многочисленные специальные курсы в Московском университете. В. В. Немыцкий был увлечённым туристом. Он умер во время туристического похода в Саянах в августе 1967 г. Его последние слова были: «На небе появились звёзды, завтра можно будет идти дальше».
В. В. Немыцкий был человеком с чистым, ничем не запятнанным сердцем. Такие люди, как он, встречаются редко, и его светлый образ навсегда сохранился в моей памяти.
Лев Абрамович Тумаркин с самого начала работы моего семинара осенью 1924 г. стал активно работать в области теории размерности. Его исследования проходили параллельно с работами В. Гуревича, но независимо от него. В теорию размерности оба эти автора вписали очень существенную новую страницу, непосредственно продолжившую основные работы Урысона и Менгера. Брауэр дал самую высокую оценку работам Л. А. Тумаркина и немедленно опубликовал их в Mathematische Annalen. 246
С самого начала тридцатых годов Л. А. Тумаркин стал с большим увлечением преподавать в Московском университете, а также, вступив в партию, заниматься общественной работой. Он вскоре сделался деканом факультета и стал видным деятелем нашего университетского математического образования. Ко всем своим обязанностям Л. А. Тумаркин относился горячо и по существу, а не формально.
В течение очень многих лет Л. А. Тумаркин читал на механико-математическом факультете Московского университета основной курс анализа, читал очень строго и вместе с тем очень понятно. Многие поколения выпускников нашего факультета получили на лекциях Тумаркина прочную основу своего математического образования.
Велика была и организационная работа, проведённая Тумаркиным на факультете. Не будет преувеличением, если я скажу, что свою современную структуру механико-математический факультет Московского университета в основном получил именно в годы деканства Л. А. Тумаркина.
Л. А. Тумаркин был человек добрый, любивший студентов, и главное, всегда неформально относившийся к ним. Студенты сполна отплачивали ему тем же. У него любили экзаменоваться, хотя Лев Абрамович отнюдь не обладал излишней снисходительностью и всегда требовал от студентов серьёзного отношения к делу.
Многолетнее деканство Л. А. Тумаркина было хорошим периодом в жизни нашего факультета.
В начале мая 1925 г. я уехал уже один к Брауэру. В моей жизни началось трёхлетие: май 1925 – октябрь 1928 гг., разделённое между Голландией и Гёттингеном и включающее, кроме того, проведённую в Принстоне (США) зиму 1927–1928 гг.
Как я уже упоминал, Брауэр жил в посёлке Бларикум, где у него был дом с довольно большим, совершенно запущенным садом и ещё в этом же саду — маленькая однокомнатная избушка, в которой стояли письменный стол, рояль и кровать. В этой избушке Брауэр собственно и жил, работал и играл на рояле. Жена Брауэра была значительно старше его и постоянно проживала в Амстердаме, где заведовала собственной аптекой. Она довольно часто приезжала в Бларикум и тогда жила в упомянутом «большом» доме. В «большом» доме постоянно жила и Корри Йонгеян, приёмная дочь Брауэра, посвятившая ему всю свою жизнь, неустанно помогавшая ему во всех его научных, университетских и других, многочисленных в их совокупности, всегда сложных и часто запутанных делах. В мае 1925 г. в это сложное семейство включился и я.
Я поселился в доме фрау
Так прошло время до конца июня. Первую половину июля я пробыл в Голландии на берегу моря. Сначала я прошёл пешком по самому берегу моря, то по воде (я шёл босиком), то по твёрдому песку вдоль воды от Схевенингена (против Гааги) до Зандфорта (против Амстердама), потом поехал в маленький приморский посёлок Катвейк (против Лейдена), где и прожил
Остаток июля я провёл в Гёттингене, где сделал по предложению Гильберта в Математическом Обществе большой обзорный доклад по общей топологии. Доклад имел успех. Август я провёл в Ба. Весь этот месяц там жил и отец Урысона, который ежедневно один час от 5 до 6 пополудни (час смерти его сына) проводил на берегу моря, на месте, около которого произошло несчастье. Этот месяц, прожитый мною в Ба, имел большое значение для всей моей последующей математической жизни. Здесь, среди скал на берегу моря, в месте, где мы особенно часто бывали с Урысоном, купаясь, загорая и разговаривая о математике, мне пришло в голову понятие нерва системы множеств, понятие, основное во всех моих дальнейших работах по топологии. Я тут же понял, что нервы бесконечно измельчающихся конечных покрытий компакта бесконечно аппроксимируют этот компакт и позволяют свести изучение его топологии к изучению некоторой последовательности конечных симплициальных комплексов. Поняв это, я сразу же принялся за написание новой работы «Simpliziale Approximationen...», чем занимался так усердно, что даже один день не успел выкупаться. Таким образом, в течение августа 1925 г., я, что называется в один присест, написал свою новую большую работу и сразу же отправил её Брауэру. Брауэру эта моя работа очень понравилась, он мне написал об этом в Ба и направил её для печатания в Mathematische Annalen.
В сентябре я отправился в пешеходное странствование по Пиренеям, которое в
Из Коллиура я опять направился в Ба в самых последних числах октября. Через
Моя голландская зима 1925–1926 гг. проходила хорошо и спокойно, в постоянной большой работе, но в эмоциональном отношении ещё вполне под знаком понесённой мною год тому назад тяжёлой утраты. По воскресеньям Брауэр, Корри Йонгеян и я ездили в Амстердам на симфонические концерты, происходившие под управлением знаменитого дирижёра Менгельберга, часто с участием выдающихся приезжих гостей. Так, однажды приезжал Стравинский и управлял своей «Весной священной». 248
В середине декабря на месяц в Бларикум приехала Эмми Нётер. Сложившаяся вокруг Брауэра группа математиков получила яркое пополнение. Вспоминаю обед у Брауэра в честь Эмми Нётер, во время которого гостья изложила определение групп Бетти комплексов, вскоре получившее всеобщее распространение и совершенно преобразовавшее всю топологию.
С приездом Эмми Нётер в Бларикуме стал бывать и её тогда двадцатидвухлетний ученик Ван дер Варден. Помню чрезвычайно оживлённые математические разговоры с его участием. В течение этой зимы Менгер, опираясь на понятие нерва, доказал, что всякий одномерный компакт топологически вкладывается в трёхмерное евклидово пространство, что представляет собою простейший частный случай доказанной несколько лет позже Небелингом и Понтрягиным знаменитой общей теоремы о погружении
Весною 1926 г. я поехал в Гёттинген и провёл там всё лето. В это лето, как и в следующее, гёттингенская математическая жизнь находилась в состоянии большого расцвета, отчасти вследствие наплыва выдающихся иностранных математиков. В это лето я подружился с Хопфом и Нейгебауэром, и в связи с этим оба названные лета, а также зима 1927–1928 гг. довольно подробно отражены в моих воспоминаниях о Хопфе, напечатанных в УМН (1977, т. 2, № 3(195),
В 1928 г. Гёттингенская академия наук по предложению Гильберта и Куранта избрала меня своим членом-корреспондентом на место недавно умершего В. А. Стеклова. Мне говорили, что была традиция, в силу которой в этой Академии всегда был один русский математик в числе её членов-корреспондентов. Первым среди них был Н. И. Лобачевский, избранный по предложению Гаусса. Я не знаю, существовала ли в действительности эта традиция и, в частности, кто из русских математиков состоял в Гёттингенской академии в промежутке времени между Лобачевским и Стекловым.
В 1928 г. моим учеником делается Л. С. Понтрягин, сразу же и надолго становящийся самым ярким светилом на топологическом небосводе. В том же году в Известиях Гёттингенской академии была опубликована первая работа Л. С. Понтрягина. Эта работа и ближайшие последующие за ней были как бы преддверием к работе Понтрягина, опубликованной в 1932 г. в «Annals of Mathematics», в которой он излагает свой знаменитый закон двойственности, составивший целую эпоху в развитии топологии.
Также в 1928 г. была опубликована в Comptes Rendus Парижской Академии наук первая и основная топологическая работа А. Н. Тихонова о произведении топологических пространств.
В конце 1928 г., соответственно в начале 1929 г., московская топологическая школа пополнилась двумя «временными» членами, которые пробыли её участниками
С Франклем я познакомился в Болонье во время происходившего в сентябре 1928 г. Международного математического конгресса, на который Франкль приехал в качестве молодого тополога, ученика Хана. Франкль очень заинтересовался новыми подходами к теории размерности, которые я излагал в докладе, сделанном на конгрессе. У нас завязались чрезвычайно оживлённые и интересные для нас обоих разговоры. Энтузиазм Франкля 249 передался и мне (он был вызван, как я уже сказал, моей новой работой), и наши топологические беседы стали настолько оживлёнными и содержательными, что мы оба отказались от запланированной конгрессом однодневной поездки во Флоренцию и провели весь освободившийся день в открытом купальном бассейне в Болонье за математическими разговорами. Мы условились встретиться с Франклем в конце сентября в Вене, и мы действительно провели там несколько дней, в доме его родителей, а также на Дунае. Там мы много катались на лодках, как гребных, так и парусных (хорошо это организовано на Дунае), и, конечно, купались не меньше. Отец Франкля владел в окрестностях Вены очень небольшой фабрикой, и там же проживала вся семья. Это не мешало молодому Франклю быть не только увлечённым математиком, но и увлечённым коммунистом. Оба эти увлечения привели к горячему желанию: переселиться из Вены в Москву. В качестве молодого математика-тополога он при этом хотел сделаться моим учеником, и мне тоже, конечно, очень улыбалось получить столь несомненно талантливого и столь увлечённого ученика. Естественно, что Франкль просил меня содействовать осуществлению его желания, а я с этой просьбой обратился к О. Ю. Шмидту. Первая реакция Отто Юльевича была: «У нас своих коммунистов довольно — пусть остаётся в Вене и готовит революцию в Австрии!». Но скоро Отто Юльевич смягчился и активно помог Франклю перебраться в Москву, что и состоялось в 1929 г.
В Москве Франкль скоро познакомился с Л. С. Понтрягиным, который был моложе его на 4 года, у них сразу возникли общие топологические интересы, результатом которых сделалась очень интересная совместная работа по теории размерности, опубликованная в Mathematische Annalen. Можно только гадать, каких дальнейших успехов достиг бы Франкль в топологии, если бы он продолжал ею заниматься. Но по идейным соображениям он переключился на прикладную математику.
А. Г. Курош начал заниматься математикой под моим руководством в Смоленске, сначала в качестве студента, а потом аспиранта Смоленского университета. Я читал тогда в Смоленске большой курс алгебры, в котором кроме обязательного материала излагал основы современной алгебры (теорию групп, колец и полей). Все эти новые идеи я привёз от Эмми Нётер. Между прочим, я думаю, что в моих Смоленских лекциях впервые в истории был употреблён термин «ядро гомоморфизма». В печати этот термин впервые появился в 1935 г. в алгебраическом прибавлении книги «Топология» Александрова и Хопфа. Пользуюсь случаем, чтобы напомнить об этом алгебраистам.
А. Г. Курош был лучшим и очень увлечённым слушателем моих смоленских лекций. В следующем году он переехал в Москву и сделался моим аспирантом по Московскому университету.
Алгебраические интересы А. Г. Куроша, ярко проявившиеся уже в Смоленске, ещё больше развились под влиянием лекций Эмми Нётер, читавшей их в Москве всю зиму. Но эти интересы А. Г. Куроша не помешали тому, что его первая научная работа была по топологии. Этой первой и единственной топологической работой А. Г. Куроша стала его классическая работа по проекционным спектрам, опубликованная в издававшемся тогда Брауэром журнале Compositio Mathematica.
Зима 1928–1929 гг.— время большого расцвета работы моего топологического семинара. Эта зима была и временем моей интенсивной работы над книгой «Александров — Хопф».
В последние дни января 1929 г. меня избрали членом-корреспондентом АН СССР.
Лето 1929 г. ознаменовалось возникновением моей дружбы с Андреем Николаевичем Колмогоровым. Как уже упоминалось, мы познакомились 250 осенью 1922 г., но началом нашей дружбы было большое путешествие, которое мы совершили летом 1929 г.
Утром 16 июня мы отправились на гребной лодке из Ярославля вниз по Волге. В этом путешествии принимал участие также гимназический товарищ А. Н. Колмогорова Николай Дмитриевич Нюберг, впоследствии сделавшийся (под влиянием А. Н. Колмогорова) выдающимся специалистом по цветоведению. Впрочем, Н. Д. Нюберг сопровождал нас только до Казани. Мы шли на вёслах, иногда под самодельным примитивным парусом. Всей навигацией ведал Андрей Николаевич, я был только гребцом. Передвигались мы в общем довольно быстро и немного меньше чем за месяц добрались до Самары (ныне Куйбышев [С 1991 г. опять Самара.
Наше плавание не обошлось без приключений — маленьких, и не совсем маленьких. Однажды большой ящик с печеньем и портативная пишущая машинка, сопровождавшая нас, оказались в Волге. Но всё обошлось благополучно; а пишущая машинка до сих пор верой и правдой служит мне, не побывав вообще ни разу в ремонте (хорошая реклама старой фирме Ремингтон).
Из Куйбышева мы пароходом отправились в Астрахань, оттуда пароходом же в Баку, далее частично автобусами, частично пешком добрались через Делижан до озера Севан, где мы на острове того же названия прожили около месяца в бывшем монастырском помещении. Теперь этого острова уже не существует, он соединился с сушей. Тогда же Севан был во всей своей красе. Мы по несколько раз в день купались в его прозрачных холодных водах. Кроме того, мы много работали, в частности, я над книгой «Александров — Хопф» (пишущая машинка меня всё время сопровождала).
Из Армении мы поехали в Тбилиси; там мы расстались, но оба отправились в Гагры: я — поездом, а Андрей Николаевич отправился пешком через Цейский ледник. В Гаграх, где в то же время жил и Л. С. Понтрягин, с которым мы поддерживали постоянное общение, мы прожили весь сентябрь, купаясь и занимаясь математикой, и в начале октября вернулись в Москву.
В начале зимы 1929–1930 гг. А. Н. Колмогоров со своей тётушкой Верой Яковлевной, заменявшей ему мать, и я поселились вместе в дачном посёлке Клязьма. На Клязьме (1929–1930) была мною построена гомологическая теория размерности. Содержащий её изложение мемуар «Dimensionstheorie» был написан годом позже в Гёттингене и опубликован в 1932 г. в Mathematische Annalen. На Клязьме я начал с А. Н. Колмогоровым и под его руководством ходить на лыжах (до этого я лишь немного катался на лыжах в валенках с горок около Смоленска в возрасте 14 лет). Кроме того, на Клязьме мы купались ежедневно с самой ранней весны и до замерзания наших речек Клязьмы и Учи. В клязьминские зимы мы очень много читали Гофмана и других немецких романтиков, а также очень много Анатоля Франса (всё в подлинниках).
Наше пребывание на Клязьме прерывалось несколькими совместными путешествиями — речными внутри СССР и заграничными. Это были путешествия на байдарке по Цне и по Десне (от Брянска до Киева), на лодке от Киева до Днепропетровска. О заграничных путешествиях скажу подробнее.
В мае 1930 г. А. Н. Колмогоров и я отправились на летний семестр в Гёттинген, откуда в первых числах августа через Мюнхен поехали во Францию. Во Франции мы сделали большое пешеходное путешествие по
По выздоровлении Андрея Николаевича мы прожили в Гёттингене два месяца с небольшим (Андрей Николаевич жил это время в известном пансионе Крейцнахер, а я в доме у Нейгебауэра). В Гёттингене мы постоянно и часто встречались с гёттингенскими математиками, больше всего с Курантом (я, кроме того, очень много с Эмми Нётер), а также с Гильбертом и Ландау. К Ландау мы
В самых первых числах февраля я поехал в Америку, в Принстон, куда был приглашён на весь весенний семестр для чтения лекций. Аналогичное приглашение получил и Гаральд Бор, и мы очень хорошо познакомились с ним во время совместного пребывания в Принстоне. Среди всех математиков, лекции которых мне приходилось слышать, Бор как лектор занимает по моему мнению бесспорное первое место по понятности, стройности и особой прозрачности своих лекций.
В июне 1931 г. мы вернулись в Москву, Андрей Николаевич из Гёттингена, я из Принстона, и отправились в Теберду, где в это время были также В. В. Немыцкий и А. Н. Тихонов. Отдыхал там и известный пианист К. Н. Игумнов
В августе 1932 г. я поехал в Цюрих на Международный математический конгресс, где встретился с Хопфом и прожил у него все дни конгресса; Хопф был в это время уже профессором Цюрихского политехникума, сменив в этой должности Германа Вейля и оставаясь в ней до своей смерти (1971). На сентябрь Хопф поехал к своим родителям в Германию, а я поехал на юг Швейцарии, где провёл на берегу Лаго Маджоре в местечке Аскона (рядом с Локарно) целый месяц. В Локарно в это время отдыхал Хаусдорф со своей женой, и мы виделись ежедневно (из Локарно в Аскону — небольшая пешеходная прогулка). Хаусдорфы не раз её делали, и я катал их на бывшей в моём постоянном распоряжении гребной лодке (изумительной лёгкости). При этих лодочных прогулках, а также и особенно во время купанья мне надо было только остерегаться того, чтобы вдруг не оказаться в Италии (граница между Швейцарией и Италией проходит
Из Швейцарии, прожив ещё некоторое время у Хопфа (он к этому времени уже вернулся в Цюрих), я поехал снова в Гёттинген, где и прожил у Эмми Нётер до самых последних чисел ноября, читая лекции в университете и чуть ли не каждый день встречаясь с Курантами. Но в ноябре 1932 г. тучи уже сгущались над Германией. Часто по утрам я просыпался от звуков «Deutschland, erwache». Это пели, расхаживая по улицам, молодые люди из
Мой поезд отходил около 5 часов утра, и было решено, что все собравшиеся у Куранта проведут у него всю ночь и потом все вместе отправятся на вокзал. После очень продолжительного, затянувшегося ужина был музыкальный вечер, который своею главной частью содержал трио Шуберта
В Гёттингене я снова, как когда-то, провёл целый летний семестр 1958 г.: мне была там предложена на этот семестр так называемая Гауссовская (очень почётная) профессура, и я повидал там тех из моих старых гёттингенских друзей, которые ещё были живы. Летом 1958 г. Курант вывез меня как
Моя гёттингенская Гауссовская профессура в течение лета 1958 г. была моей последней продолжительной заграничной поездкой. Вообще же серия моих последних поездок за границу открывается поездкой в Париж в начале лета 1954 г., где я, вместе с А. А. Марковым, представлял нашу Академию наук на торжествах, устроенных Парижской академией по поводу
На следующем Международном конгрессе (Эдинбург, 1958 г.) меня избрали представителем СССР в Исполнительный комитет Международной математической ассоциации. Тогда президентом ассоциации был избран Хопф, а вице-президентами Данжуа и я. В соответствии с этим в последующее четырёхлетие мне несколько раз приходилось ездить в Западную Европу и встречаться с моими тамошними друзьями. Это четырёхлетие кончилось Международным математическим конгрессом в Стокгольме (1962). За ним последовал конгресс в Москве, один из самых ярких международных математических конгрессов (таким он остался в памяти многих его участников). Председателем организационного комитета этого конгресса был И. Г. Петровский, а его учёным секретарём — В. Г. Карманов. Московский конгресс был последним, в котором я принимал участие.
Весною 1968 г. я на неделю поехал в Голландию. Всю эту неделю я был гостем X. Фрейденталя в Утрехте. На торжественном открытии нового здания Утрехтского математического института я сделал доклад «Die Topologie in und um Holland», русский перевод которого опубликован под названием «Брауэровский период в развитии топологии». Я посетил Бларикум и провёл там несколько часов в обществе Корри Йонгеян и фрау
Мои самые последние поездки за границу были в 1970–1971 и 1974 гг. Это были три поездки, совместные с А. А. Мальцевым. Первая в июне 1970 г. в Западную Германию: во Франкфурт (где я навсегда простился с Хопфом), Мюнстер и Гёттинген. Вторая в ноябре 1971 г. в Цюрих, где я участвовал в траурном заседании, посвящённом памяти Хопфа и происходившем в день его рождения 19 ноября. Наконец, третья опять в Западную Германию: в Бохум, где мы пользовались гостеприимством Цишанга, Франкфурт, Гейдельберг и снова, и больше всего, Гёттинген. Гёттинген был первым зарубежным городом, в котором я побывал. Он был и последним. Круг замкнулся. Вернувшись из этого путешествия в Москву, я через несколько дней заболел, и с этой болезни и начался тот собственно старческий период моей жизни, в котором я нахожусь сейчас.
Я уже говорил, что в последний раз виделся с Хаусдорфом на Лаго Маджоре осенью 1932 г. Зиму 1932–1933 гг. мы сначала оживлённо переписывались. Потом Хаусдорф стал мне писать всё реже, а ещё через некоторое время мне стало ясно, что и мои письма могут быть небезопасны для него. Наша переписка прекратилась. В начале 1942 г. Хаусдорфу стало известно, что он подлежит отправлению в концлагерь, и в феврале того же года Хаусдорф и его жена в своём доме в Бонне покончили жизнь самоубийством.
В тридцатых годах моими учениками делаются Алексей Серапионович Пархоменко и Игорь Владимирович Проскуряков. С И. В. Проскуряковым у нас есть совместная работа о так называемых приводимых множествах, которую я очень ценю. А. С. Пархоменко после нескольких интересных работ об одном классе непрерывных отображений, а именно о классе так называемых уплотнений (т.е. взаимно однозначных непрерывных отображений), стал всё больше переключаться на педагогическую работу со студентами первого курса. В этой педагогической работе, которой и я с увлечением моего возраста стал отдавать всё больше сил, Алексей Серапионович сделался моим ближайшим коллегой и сотрудником, что содействовало развитию той близкой дружбы, которая связывает меня с А. С. Пархоменко вот уже 254 несколько десятилетий. Я привык постоянно советоваться с Алексеем Серапионовичем по самым трудным жизненным вопросам, связанным и с моей работой и с жизнью моих более молодых учеников, а через то и с самыми различными сторонами моей собственной жизни.
В 1934 г. после переезда Академии наук в Москву я делаюсь научным сотрудником Математического института
В 1934 г. директором Института математики Московского университета делается А. Н. Колмогоров. Заняв это место, он не только возглавил всю университетскую научную жизнь в области математики, но и всю подготовку молодых математиков-аспирантов (да и старших студентов) Университета.
Одним из первых организационных планов его как директора Института в области международных математических отношений был план создания целой серии международных конференций по различным областям математики. Осуществились лишь первые два звена этой широко задуманной цепи конференций: конференция по дифференциальной геометрии и тензорному анализу (1934 г.), председателем организационного комитета которой был В. Ф. Каган, и прошедшая под моим руководством топологическая конференция (1935 г.) — первая международная конференция по топологии,
В 1935 г. А. Н. Колмогоров и я купили дом в Комаровке, до сих пор остающийся в нашем владении. Дом этот до 1935 г. составлял собственность родной сестры К. С. Станиславского Анны Сергеевны Алексеевой (в замужестве сначала Штекер, а потом Красюк). Фактически владением Анны Сергеевны управлял и распоряжался её сын от первого брака Георгий Андреевич Штекер, с которым и велось дело по переходу дома к новым владельцам. Им, кроме А. Н. Колмогорова и меня, стал и Владимир Иванович Козлинский, художник, среди произведений которого наибольшую известность получили, с одной стороны, некоторые театральные постановки в ленинградских и московских театрах (в том числе и московском Большом), с другой стороны,— многочисленные книжные иллюстрации.
В. И. Козлинский со своей женой (также художницей) Марианной Михайловной Кнорре, А. Н. Колмогоров и я были хорошими соседями по комаровскому дому и дружно прожили в этом доме 15 лет, до 1950 г., когда доля В. И. Козлинского в нашем совместном домовладении перешла к А. Н. Колмогорову. С этих пор Андрей Николаевич и я стали единственными владельцами этого дома.
При продаже своего дома Анна Сергеевна Алексеева сохранила за собою право пожизненного пользования одной из его комнат. Однако этим своим правом Анна Сергеевна пользовалась недолго. В 1936 г. она умерла.
Комаровский дом заслуживает того, чтобы ему самому посвятить несколько строк. В одной своей части он был построен в двадцатых, а в другой части — в семидесятых годах
В эпоху приобретения нами комаровского дома Анне Сергеевне Алексеевой было уже 68 лет. В её лице ещё видны были черты большой прежней красоты, в частности черты сходства с её братом К. С. Станиславским. В молодости Анна Сергеевна тоже была артисткой и выступала в Художественном театре под фамилией Алеевой. В 1935 г. уже склонилась к закату её богатая впечатлениями, знакомствами и эмоциями жизнь, про которую в семье Алексеевых говорили, что если бы она была описана под заглавием «Моя жизнь около искусства», то получилась бы книга, не менее интересная, хотя и в другом роде, чем знаменитая книга К. С. Станиславского «Моя жизнь в искусстве». К числу очень близких знакомых Анны Сергеевны принадлежал великий музыкант дирижёр Артур Никиш. На письменном столе Анны Сергеевны до конца её жизни стоял большой портрет А. Никиша с его собственноручной выразительной надписью на немецком языке. А. Никиш умер в 1922 г. В Москве он концертировал в 1913–1914 гг. К этому времени относится и упомянутый его портрет. Однажды сын Анны Сергеевны наигрывал на рояле сцену графини из «Пиковой дамы». Когда он дошёл до знаменитого романса графини, Анна Сергеевна сбоку подошла к роялю и в задумчивости оперлась на него, погрузившись в воспоминания. Ей было о чём вспомнить под звуки этой музыки.
Во времена Алексеевых, в частности, во всё первое десятилетие текущего столетия, Комаровка составляла как бы филиал основной усадьбы Алексеевых, Любимовки, расположенной на расстоянии около километра от Комаровки в сторону Тарасовки. Комаровка соединялась с Любимовкой хорошо утрамбованной пешеходной дорожкой, содержавшейся всегда в большом порядке и существующей и сейчас, а в начале века ежедневно посыпавшейся свежим песком: она служила местом ежедневной утренней прогулки Елизаветы Васильевны Алексеевой (матери К. С. Станиславского). Небольшой лес между Комаровкой и Любимовкой со стороны Любимовки примыкал к также небольшому парку на берегу реки Клязьмы, в котором и находился огромный барский дом Алексеевых. Именно в нём родились К. С. Алексеев-Станиславский, его брат Владимир Сергеевич и сестры Анна Сергеевна и Людмила Сергеевна. В этом доме, сейчас находящемся в состоянии полного упадка и состоящем из множества запущенных коммунальных квартир и отдельных комнатушек, бывало много выдающихся представителей русской литературы, театральной и музыкальной культуры, прежде всего, Чехов и Горький, Собинов, Шаляпин и много других.
Уже в последние годы своей жизни, находясь в глубокой старости, в Комаровку
С самого приобретения комаровского дома в 1935 г. и до 1939 г. включительно происходила серия его капитальных ремонтов. Дом нуждался в капитальном ремонте от фундамента до крыши, ремонты эти поглощали значительную долю нашего времени, энергии и наших средств в течение нескольких лет.
Руководителем и в значительной части исполнителем этих работ в их плотницкой и столярной части был П. А. Капков (он впоследствии переквалифицировался 256 из плотника в столяра-краснодеревщика и сделал наши шкафы не только в Комаровке, но и в наших московских квартирах). Это был честный и очень способный, я бы даже сказал талантливый человек. В его плотницкой работе ему помогал его сын Лёва, впоследствии сделавшийся хорошим хирургом, кандидатом медицинских наук. В августе 1935 г. эти ремонтные работы только начинались, но комаровский дом, находившийся ещё в большом неустройстве, уже принял своих первых гостей с ночлегом. Ими были супруги Хопф, приехавшие только что в Москву на топологическую конференцию.
По окончании топологической конференции супруги Хопф, А. Н. Колмогоров и я поехали в Крым, в Гаспру, где провели примерно полтора месяца. Здесь Хопф и я прежде всего закончили работу над нашей книгой и написали к ней предисловие. А. Н. Колмогоров и Анна Евгеньевна Хопф (она была прибалтийская немка, урождённая фон Миквитц, образование получила ещё в царское время в петербургской гимназии и свободно говорила
Вторая половина 30-х годов протекала мирно в Комаровке. Короткое время А. Н. Колмогоров и я интенсивно занимались вместе открытыми отображениями, из чего проистекли: знаменитый пример Колмогорова открытого нульмерного отображения, повышающего размерность, и моя теорема о невозможности такого повышения при счётнократных открытых отображениях. Оба эти результата имели некоторые последствия для дальнейшего развития теории размерности. Ещё я написал в Комаровке в 1939 г. работу о бикомпактных расширениях топологических пространств, в которой дан новый метод построения таких расширений, совсем другой природы, чем первый метод А. Н. Тихонова, применённый затем Чехом. Оба метода оказались нужными и имели много последующих применений в топологии.
Летом 1938 и 1939 г. А. Н. Колмогоров и я вместе с А. И. Мальцевым и С. М. Никольским сделали два замечательных лодочных плавания: первое от Красноуфимска до Ульяновска по рекам Уфа, Белая, Кама, Волга, второе по средней Волге. Во вторую половину
В 1939 г. А. Н. Колмогорова избрали в академики и он сразу тяжело и сложно заболел. После выздоровления на него нахлынуло целое море новых и ответственных обязанностей (он был избран академиком-секретарём отделения физико-математических наук и автоматически членом Президиума Академии). Со всеми этими обязанностями он справлялся хорошо и чётко, и влияние его на всю математическую и вообще научную жизнь нашей страны чрезвычайно возросло. По необходимости произошёл и глубоко отрицательный факт: Андрей Николаевич оставил директорство Института математики Московского университета.
В 1939 г. в Комаровку на несколько дней приехал восторженно увлечённый математикой семнадцатилетний школьник Женя Мищенко, ныне член-корреспондент
Сразу после демобилизации он поступил на механико-математический факультет Московского университета и стал с увлечением учиться математике. Учился он хорошо, и когда пришло время выбирать специальность, сделался топологом. Занимался он и большой общественной работой. Вступив, ещё находясь в армии, в ряды КПСС, он в университете скоро настолько выделился своей активной общественной работой, что был избран первым секретарём факультетской комсомольской организации и был им в течение нескольких лет. По окончании университета он поступил в аспирантуру под моим руководством.
Первая научная проблема, которую я ему дал, примыкала к моей «казанской» работе и, как я потом понял, не была удачно поставленной: она вообще так и осталась не решённой. Вторая проблема требовала построения примеров в связи с моим законом двойственности для незамкнутых множеств. Мищенко её удачно решил, проявив при этом изобретательность и конструктивные математические способности. Его результат был опубликован в «Математическом сборнике».
Ещё в студенческие годы Мищенко познакомился с Л. С. Понтрягиным и стал всё больше подпадать под его математическое влияние. Но и сделавшись в конце концов учеником Льва Семёновича, он никогда не переставал восприниматься мною как мой ученик — в соответствии с моим твёрдым убеждением в необратимости отношений между учителем и учеником: раз возникнув, эти отношения уже не могут отмениться, разве только ценою катастрофы, так же, как и отношения между отцом и сыном. Мне всегда казалось и кажется, что эта точка зрения разделяется Е. Ф. Мищенко; в соответствии с этим наши отношения, не испытав никогда никаких колебаний, всегда оставались и остаются очень сердечными.
Запомнилось лето 1950 г., проведённое совместно Е. Ф. Мищенко, К. А. Ситниковым и мною на Волге в Васильсурске. В нашем распоряжении была гребная лодка, и мы ежедневно с раннего утра отправлялись на ней на Волгу, по которой и выгребали вверх по течению, сколько было наших сил и желания до того или иного понравившегося нам места, где и проводили несколько часов, купаясь и читая «Одиссею» Гомера в переводе В. А. Жуковского (читал вслух её я). В то лето мы прочитали таким образом на Волге всю Одиссею. Кажется, все получали от этого удовольствие.
Возвратившись (обычно уже довольно поздно) домой, мы обедали приготовленной нашей хозяйкой обильной стерляжьей ухой, и часто ещё грибами и ягодами. Вечером мы подымались на (как известно довольно высокое) Васильсурское плоскогорье и гуляли в расположенных на нём лесах, перелесках и полях.
В середине пятидесятых годов я неоднократно проводил с Е. Ф. Мищенко значительную часть лета в Геленджике в доме отдыха Московского университета. Там мы делали и большие заплывы, и лодочные плавания, а Е. Ф. Мищенко, кроме того, ещё и играл в волейбол.
В предвоенный 1940 г. мною написана работа «Общая теория гомологий», содержащая построение на основе нервов кольца когомологий для любого бикомпакта. Как было доказано позже, это кольцо изоморфно кольцу, непосредственно построенному ранее (1936 г.) А. Н. Колмогоровым. Я знал его построение, и мне было лишь интересно получить тот же результат 258 моим методом нервов. Этим была подготовлена моя «Казанская работа» 1942 г., о которой ниже.
Наступила война. А. Н. Колмогорову и мне было предложено эвакуироваться с нашими семействами в Казань. Семейство Колмогорова состояло из его тётушки Веры Яковлевны Колмогоровой, тогда 78 лет, фактически заменившей ему его мать, умершую при самом рождении Андрея Николаевича. Моё семейство было обширнее и состояло из моей матери 80 лет, моей сестры, врача Варвары Сергеевны Александровой, и домашней работницы матери, давно проживавшей с ней на положении члена семьи.
Все мы были очень комфортабельно отправлены в середине июля поездом в Казань и по прибытии в Казань размещены в актовом зале Казанского университета,
Оставив членов наших семейств в Казани у Вильде, Андрей Николаевич и я вернулись в Москву к первому сентября и начали чтение лекций в университете, а Андрей Николаевич, кроме того, исполнение своих обязанностей по Академии наук. В Москве у меня была комната в. университетском доме на улице Грановского, у Андрея Николаевича была комната в квартире Л. С. Нейман (сестры П. С. Урысона) в Пименовском переулке близ площади Маяковского. Квартира Л. С. Нейман была нашей общей «штаб-квартирой» в Москве. Жили же мы фактически весь сентябрь и половину октября в Комаровке.
Поздно вечером пятнадцатого октября нам сообщили официально, что в эту же ночь нам предстоит отправиться назад в Казань. Взяв в руки свою уже упоминавшуюся портативную пишущую машинку, я отправился пешком из дома на улице Грановского, где меня застало это распоряжение, в квартиру Л. С. Нейман. До сих пор помню этот переход по погружённой в мрак Москве. Я и сейчас не понимаю, как мне удалось пересечь пешком улицу Горького, по которой, направляясь к центру Москвы, одна за другой шли колонны танков. Помню только, что при этом пересечении я ударил своей пишущей машинкой о фонарный столб, что впрочем, как выяснилось позже, не принесло ей вреда, только на футляре остался след от этого удара.
У дома Л. С. Нейман Колмогорова и меня уже ждал легковой автомобиль, доставивший нас вскоре на Павелецкий вокзал, где мы сели в поезд. В довольно плотно наполненном мягком вагоне Андрей Николаевич и я имели по спальному месту, так что и этот переезд был вполне комфортабельным. Однако поезд доставил нас не в Казань, а в город Горький, откуда нас везли в Казань уже на пароходе. Как известно, зима в 1941 г. наступила очень рано, и по Волге в те дни, когда мы добирались по ней из Горького в Казань, шло так называемое «сало». Потом оказалось, что наш рейс был вообще последним в сезоне. Так или иначе, мы приплыли в Казань благополучно между 16 и 20 октября и вернулись в квартиру Вильде как в родной дом.
В один из ближайших дней по возвращению в Казань Колмогоров и я всё же совершили прогулку на Волгу и выкупались в замерзающей 259 реке: мы не нарушили и в этот год наших клязьминских привычек. Однако, больше в эту зиму мы в Волге уже не купались.
Всем хозяйством нашего (общего с Колмогоровым) объединённого семейства управляла моя сестра Варвара Сергеевна, все устремления которой были направлены на то, чтобы создать Андрею Николаевичу и мне наилучшие возможные условия для научной работы. Свою сложную в обстановке того времени хозяйственную деятельность Варвара Сергеевна совмещала с врачебной работой на пункте переливания крови, а также с работой по написанию своей диссертации, которую начала ещё в Москве в клинике Е. М. Тареева. Писание диссертации она осуществляла ранним утром до начала выполнения своих прочих обязанностей и вставала для этого ежедневно в 5 часов утра.
Тому, что наша жизнь в Казани шла ровно и благополучно, в немалой степени содействовали с самого начала установившиеся хорошие отношения с семейством Вильде. Всегда вспоминаю о нём с тёплым чувством.
В марте 1942 г. Колмогоров, написав свои знаменитые заметки по теории турбулентности, опубликованные в «Докладах Академии наук», уехал в Москву. Я первую военную зиму (1941–1942) был всецело поглощён написанием своей (так называемой «Казанской») работы о гомологических свойствах расположения комплексов и замкнутых множеств. Я одновременно писал эту работу
Я работал в эту зиму с большим подъёмом, работа, что называется, спорилась. Однако рабочее настроение у меня установилось не сразу: дело в том, что, приехав в Казань, я как и все находился под гнётом тяжёлого чувства, вызванного самым фактом войны и усугублённым тогда ещё имевшей место неясностью, как будут развиваться события на фронте, — ведь гитлеровские полчища ещё находились под Москвой. Всеобщим настроением среди людей, занимавшихся наукой, было, естественно, что лишь задачи, связанные с войной, заслуживают внимания. Это общее настроение нашло и своё внешнее вполне материальное выражение в том, что математики, занимающиеся прикладными проблемами, ежедневно получали 800 граммов хлеба, а остальные — 600 граммов. Позже, после упомянутой ниже речи О. Ю. Шмидта, эта дифференциация была отменена. Всем было известно, что я — безнадёжный теоретик и с меня, так сказать, нечего взять. Настроение моё только ухудшилось, когда ко мне было проявлено некоторое особое внимание и было предложено посещать какой-нибудь прикладной семинар, а когда я сказал, что я же ничего не буду понимать на этом семинаре, то получил несомненно продиктованный искренней благожелательностью ответ, что этого никто не заметит. Но я поблагодарил за проявленную ко мне заботу и решительно отклонил сделанное мне предложение. Настроение моё сделалось ещё хуже, и ни в какой мере не было рабочим.
И вот в один прекрасный день О. Ю. Шмидт, тогда вице-президент Академии, единолично возглавлявший её находившуюся в Казани часть, на большом собрании научных работников Академии сделал декларативное заявление, в котором, в частности, сказал о том, что, естественно, во время войны внимание научных работников, как и всех вообще граждан, в первую очередь посвящено и должно быть посвящено непосредственным нуждам обороны и достижению победы, но что это вовсе не значит, что в области науки должна быть прекращена всякая работа теоретического характера, 260 не связанная непосредственно с войной. Одно несомненно, сказал он: в науке во время войны нельзя заниматься пустяками, учёные-теоретики более чем когда-нибудь должны заботиться о том, чтобы проблемы, над которыми они работают, были значительны и имели для науки принципиальное значение.
Таким запомнилось мне содержание сказанного О. Ю. Шмидтом выступления о тематике научных исследований в военное время. Естественно, что речь эта произвела на меня огромное впечатление. Я понял, что могу работать над тем, над чем действительно могу с пользой работать, а не должен делать вид, что делаю то, что не способен делать.
На основе ежедневно получаемых 800 гр. хлеба и других продуктов, получаемых по карточкам, а также продуктов, время от времени распределявшихся среди сотрудников Академии её хозяйственным аппаратом, и происходило продовольственное снабжение научных работников Академии. Оно, естественно, оставляло желать лучшего, и я не берусь судить, были ли эти недостатки вызваны одними лишь объективными обстоятельствами военного времени. Академики и члены-корреспонденты находились в привилегированном положении,
Я высокой чести удостоен —
не забыть торжественных минут:
Я сегодня предстоял пред Ноем
Соломоновичем Гозенпуд),
а также потому, что для академиков и членов-корреспондентов имелась специальная столовая, тоже впрочем очень невысокого качества. Тем не менее никто не голодал, хотя один из весьма и по заслугам уважаемых академиков и произвёл однажды в присутствии одного весьма высокопоставленного лица антропометрическое измерение объёма своей талии, долженствовавшее показать, как он исхудал в Казани. И вот в ноябре 1943 г. все академики и члены-корреспонденты, независимо от места своей эвакуации, были приглашены в Свердловск на сессию Общего собрания Академии. Во время этой сессии состоялся банкет, для описания всего изобилия и всей роскоши которого нужно перо Гомера или по крайней мере Н. В. Гоголя. Всю последующую ночь медицинские службы Академии работали, не покладая рук, оказывая медицинскую помощь светилам науки, не рассчитавшим возможностей своего пищеварительного аппарата. Мне до сих пор делается стыдно, когда я вспоминаю о своём участии в этом пиршестве,— ведь рядом с залами, где оно происходило, наши, не украшенные академическими званиями коллеги по науке (и по Московскому университету), жили в том же городе Свердловске на очень скромном продовольственном пайке.
Но возвращаюсь к казанской зиме 1941–1942 гг. Находившиеся в Казани московские математики образовали казанское отделение Московского математического общества, которое и собиралось еженедельно по вторникам совместно с Казанским математическим обществом. Этими совместными заседаниями обоих обществ председательствовали по очереди их президенты, т.е. Н. Н. Парфентьев (Казань) и я. Когда я 1 октября 1943 г. вернулся в Москву, объединённые заседания обоих названных обществ продолжались под председательством Н. Н. Парфентьева до возвращения в Москву всех находившихся в эвакуации в Казани членов Московского математического общества. Однако ещё до этого, в самом конце зимы 1942 г., состоялось (под моим председательством) торжественное заседание Московского общества, посвящённое его
Заметными событиями в математической казанской жизни той зимы были защиты двух докторских диссертаций (будущими академиками) — А. И. Мальцевым и С. М. Никольским и двух кандидатских (обе по общей топологии) — С. В. Фоминым и Н. А. Шаниным. Диссертации Мальцева и Никольского завершались скромными по условиям военного времени «банкетами» в маленькой чердачной комнатушке (под крышей главного университетского здания), в которой проживали оба диссертанта. Гостями на этих «банкетах» были А. Н. Колмогоров и я. Их атмосфера запомнилась мне своей
Казанская зима была и временем большого подъёма дружеских отношений между Л. С. Понтрягиным и мною. Мы часто и очень хорошо встречались и много разговаривали на самые разнообразные темы. Встречался я всегда очень хорошо и с Андреем Николаевичем Тихоновым и его женой Натальей Васильевной. Очень часты и сердечны были мои встречи с Абрамом Исаковичем Алихановым и его братом Артёмом Исаковичем Алиханяном, известными среди их друзей под сокращёнными именами Абуша и Артюша. Жена Абуши, Слава Соломоновна Рошаль, о которой я уже упоминал выше как о превосходной скрипачке (в частности, Ойстрах очень ценил её игру), заболела в Казани сыпным тифом и по выздоровлении должна была совсем коротко остричься и выступала в концертах, имея на голове чёрный бархатный берет, что, впрочем, очень шло к ней. Кроме С. Рошаль, я много слушал в Казани пианистку Миклашевскую, выступления которой организовывала Наталья Николаевна Семёнова, вокруг которой всегда было много музыки. Сама Наталья Николаевна хорошо играла на фортепиано. С нею, как и с её мужем академиком Николаем Николаевичем Семёновым, я был знаком ещё по Батилиману.
Теперь, забегая на много лет вперёд, скажу несколько слов о моих последующих встречах с Алихановым в их московском доме, когда А. И. Алиханов был уже академиком, директором одного из крупнейших физических институтов. Алихановы занимали прекрасный особняк при возглавляемом Алихановым институте в Черёмушках, войти в который можно было только через проходную будку под строгим контролем. Как далеко это было от той каморки под лестницей, которую они занимали в Казани! В этом особняке кроме Абрама Исаковича и Славы Соломоновны проживал и их сын Тигран (родившийся в Казани или вскоре после Казани). Ко времени моего посещения Алихановых в Москве Тигран был уже известным пианистом, лауреатом Международного конкурса в Париже. Подрастала и дочка, тоже скрипачка, как и её мать. Дом был полон музыки. Вспоминаю один вечер, проведённый мною у Алихановых вместе с академиком-физиком Игорем Евгеньевичем Таммом, тоже большим любителем музыки. После ужина Тигран весь вечер играл сонаты Бетховена. Особенно мне понравилось его исполнение пятой сонаты. А Слава Соломоновна изумительно сыграла
В 1964 г. было торжественно отпраздновано столетие 7 Московского математического общества. После официального заседания с моим вступительным докладом и доклада А. Г. Куроша (о последних 30 годах жизни Общества) состоялся концерт в актовом зале Московского университета, на котором С. Рошаль и Тигран Алиханов сыграли «Крейцерову сонату» Бетховена, а Тигран ещё «Аппассионату».
В конце 60-х годов А. И. Алиханов тяжело заболел. Слава Соломоновна сразу же прекратила свою концертную деятельность, а очень скоро и вообще оставила музыку, говоря, что её дело теперь не играть на скрипке, а ухаживать за больным мужем. В декабре 1970 г. А. И. Алиханов умер. Я в это время был в Ереване. В Армении смерть Алиханова воспринималась как национальное горе.
Перехожу снова к казанской зиме 1941–1942 гг. В эту зиму я хорошо познакомился с Константином Константиновичем Марджанишвили и его матерью Надеждой Дмитриевной Живокини-Марджанишвили, принадлежавшей к славной артистической династии Живокини, представители различных поколений которой в течение целого столетия выступали на подмостках Московского Малого театра. Отец Константина Константиновича знаменитый режиссёр Константин Александрович Марджанишвили ещё до революции вошёл в историю русского театра под фамилией Марджанова, а после революции стал одним из создателей и наиболее ярких представителей театра Грузии.
Я, начиная со своего пребывания в Новгород-Северске и Чернигове, очень интересовался театром и любил его как большое самостоятельное искусство, тесно связанное с литературой, но никак не подчинённое ей. Для меня всегда была неприемлемой точка зрения некоторых любителей и деятелей театра литературно-психологического направления, для которых спектакль являлся не самодовлеющим произведением актерского и режиссёрского творчества, а
Я снова перескакиваю чуть ли не на целое десятилетие вперёд. Мои дружеские отношения с К. К. Марджанишвили получили новое развитие и, так сказать, поднялись на новую ступень во время нашей совместной поездки в Рим в самом конце апреля 1950 г., когда мы представляли Академию наук СССР на
Если не ошибаюсь, это была первая послевоенная международная математическая встреча с участием немецких учёных. Конференция была очень представительной, в ней участвовали многие самые выдающиеся геометры и топологи, были и математики других специальностей. Участником конференции был и Хопф, и это была моя первая встреча с ним после пятнадцатилетнего перерыва. В напряжённой и одновременно суетливой 263 обстановке этого юбилея трудно был найти подходящее место и время для нашей дружеской встречи с Хопфом, а потребность в такой встрече, в которой мы могли бы сказать друг другу всё, что у нас накопилось за пятнадцать лет, была очень большой у нас обоих. Ведь мы действительно были очень близкие друзья. И я искренне благодарен К. К. Марджанишвили за то, что он существенно помог нам встретиться в такой обстановке, которая соответствовала нашим желаниям и настроению.
Мэр города Рима устроил по поводу юбилея Севери торжественный официальный банкет. Он попросил меня выступить на этом банкете с речью и подчеркнул при этом, что обращается с этой просьбой ко мне, именно как к главе советской делегации, и надеется, что моя речь будет представлять большой общий интерес. Он добавил, что с аналогичной просьбой он обратился и к американскому послу, который также участвовал в качестве гостя в юбилейных торжествах. Шёл 1950 г. Обстановка во всём мире была очень сложной и я должен был коснуться её в своей речи. Моя задача была тем более ответственна, что приглашение выступить с речью я получил всего за несколько часов до банкета и оставалось совсем немного времени для обдумывания моего выступления. Не знаю как бы я справился со своей задачей, если бы не дружеская помощь К. К. Марджанишвили, который оказал мне всю, столь необходимую в тот момент, моральную поддержку. По свидетельству лиц для меня в данном вопросе авторитетных, с мнением которых я считался, моё выступление прошло во всех отношениях удачно, и это было для меня источником большого удовлетворения.
О всех сторонах нашего совместного пребывания в Риме я вспоминаю не только с искренним дружеским чувством по отношению к К. К. Марджанишвили, но и с чувством сердечной ему благодарности. Эти воспоминания о поездке в Италию весною 1950 г. являются вставным эпизодом к связному изложению моих воспоминаний, достигших конца казанской военной зимы 1941–1942 г.
Лето 1942 г. я также провёл в Казани, главным образом купаясь в Казанке и в Волге и отдыхая от напряжённой работы во время предшествовавшей зимы. Лето это было омрачено одним тяжёлым впечатлением. Был убит на войне Володя Вильде, призванный в армию в самом начале лета по окончании школы. Тяжело было быть свидетелем того страшного горя, которое обрушилось на семью Вильде, и прежде всего на его мать Нину Альбертовну. Когда А. Н. Колмогоров и я посетили (уже в первой половине пятидесятых годов) Казань во время одного из наших лодочных путешествий и встретились с Ниной Альбертовной, было ясно, что протекшие годы не изгладили её горя.
Я вернулся в Москву 1 октября 1942 года. Московский университет находился в эвакуации сначала в Ашхабаде (1941–1942 гг.), потом (в 1943 и позже) в Свердловске. Но некоторое число профессоров (в частности, механико-математического факультета) оставалось в Москве. Поэтому оказалось возможным наладить в течение 1942–1943 учебного года занятие механико-математического факультета и в Москве. Студенты, желавшие заниматься, также нашлись среди молодых людей, не призванных в армию по состоянию здоровья, и среди девушек. Так или иначе лекции по первому курсу в Москве читали: А. Н. Колмогоров (математический анализ), Н. А. Глаголев (аналитическая геометрия), я (высшая алгебра). Были и некоторые специальные курсы и семинары, в том числе мои по топологии. У меня, в частности, занимался Л. Д. Кудрявцев (ныне — доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой высшей математики Московского физико-технического института). У меня Л. Д. Кудрявцев защитил кандидатскую диссертацию (по топологии). Топологическую кандидатскую диссертацию защитил и А. М. Роднянский (затем работавший в Брянске), но его математические 264 занятия осуществлялись с большими перерывами
В феврале или марте 1943 г. я по-настоящему хорошо и близко познакомился с И. Г. Петровским, на короткое время приехавшим в Москву из эвакуации, в которой находился вместе с механико-математическим факультетом Московского университета. Обе военные зимы И. Г. Петровский был деканом этого факультета и пробыл это время с ним сначала в Ашхабаде, а потом в Свердловске. В Москву Иван Георгиевич приехал, чтобы ознакомиться с положением дел на остававшейся в Москве части факультета. У нас было много поводов для разговоров об университетских делах, и не только о них: ведь был разгар войны, и много было волнующих тем. В это время я впервые близко узнал И. Г. Петровского и как выдающегося университетского деятеля и как человека редкой интеллектуальной и моральной высоты. Он был одним из тех учеников Д. Ф. Егорова, которые унаследовали всю его исключительную нравственную силу. Организационные способности И. Г. Петровского, ярко проявившиеся уже на посту декана, который он занимал в трудные военные годы, в полную силу развились на посту ректора Московского университета, который он, как известно, занимал последние 22 года своей жизни (1951–1973). Я неоднократно говорил в своих публичных выступлениях о том, что в истории русских университетов самыми выдающимися среди многих незаурядных ректоров являются по моему мнению два: ректор Казанского университета Н. И. Лобачевский и ректор Московского университета И. Г. Петровский. Мне посчастливилось находиться в постоянном близком общении с И. Г. Петровским по широкому спектру деловых, общественных и личных вопросов в течение двух последних десятилетий его жизни, и об этом общении я постоянно вспоминаю, когда думаю о том, что было у меня самого ценного во вторую половину моей жизни.
Всю зиму 1942–1943 гг. А. Н. Колмогоров и я в основном жили в Комаровке, проводя в Москве обычно лишь
В дни моего пребывания в Москве той зимой я обедал в Доме учёных (на Кропоткинской улице). Обеды были очень хорошие (не сравнить с казанскими), но происходили со строгим соблюдением чинопочитания. Так например, в виде закуски академики получали краковскую колбасу, а члены-корреспонденты — полтавскую. По этому поводу я даже заметил, что, не сомневаясь в глубокой обоснованности соблюдения различия между академическими чинами в отношении снабжения их различными сортами колбасы, я с точки зрения советского патриотизма считаю, что академики должны быть снабжаемы отечественной полтавской колбасой, а члены-корреспонденты — зарубежной краковской.
В Доме учёных обедал и известный пианист Константин Николаевич Игумнов (как Народный артист СССР, он был приравнен к академикам и угощаем краковской колбасой). Мы часто встречались с ним в Доме учёных и в большинстве случаев обедали вместе. Но встречались мы с Константином Николаевичем и на концертах в Большом и Малом залах Консерватории. Он всегда бывал на хороших концертах, да и сам выступал довольно часто. А я старался не пропускать хороших концертов, когда они случались в мои московские дни. После концерта мы часто ходили в мою московскую комнату на улице Грановского, пили чай с вареньем, которое у меня всегда было, и иногда засиживались за разговорами допоздна.
С К. Н. Игумновым я познакомился давно — летом 1931 г. в Теберде, где он отдыхал в санатории и куда по возвращении
2 декабря 1947 г. К. Н. Игумнов дал свой последний в жизни концерт. Программа этого концерта, запомнившаяся мне, была необычайно обширна. В ней были и
В вестибюле консерватории висели афиши о предстоящем через несколько дней камерном концерте, в котором Игумнов должен был играть фортепианную партию в трио Чайковского «Памяти великого артиста». Но концерт этот не состоялся.
Через два дня после описанного мною концерта в Большом зале я узнал, что К. Н. Игумнов приехал после него домой совершенно больным. В начале предполагалось воспаление лёгких, но потом этот диагноз был отменён. Болезнь явно затягивалась (она продлилась почти 4 месяца). Больной был в полном сознании, охотно разговаривал с близкими людьми, но был очень слаб. Бо́льшую часть времени он лежал, хотя иногда подходил к роялю и неподолгу играл. Рядом с его постелью стоял стол, на котором лежала партитура баховских «Страстей по Матфею» и книга стихов Тютчева. И то, и другое было, как он мне говорил, его постоянным чтением. В эти месяцы болезни Игумнова я часто бывал у него, иногда специально приезжая для этого в Москву. Привозил ему и молоко от коровы, принадлежавшей нашей соседке по Комаровке. Молоко было действительно хорошее и по словам Константина Николаевича имело на него благотворное действие.
Наши частые встречи были очень сердечными, и наши отношения приняли в эти последние месяцы жизни Игумнова характер подлинной дружбы. Но хотя мы много и подолгу разговаривали во время моих частых посещений, было ясно, что силы больного падают. К лечению Игумнова были призваны все лучшие терапевты Москвы. Тем не менее бесспорного для всех них диагноза всё же не удавалось установить. Наконец, врачи как будто сошлись на том, что имеется злокачественное заболевание крови (лейкемия). Константин Николаевич понимал тяжесть своего состояния, и часто говорил, что ему пора собираться «в дальнюю дорогу». Будучи религиозным человеком, он подвергся таинству соборования, но получил лишь кратковременное 266 облегчение. Наконец, ему было предложено лечь в больницу, и он согласился. Он пригласил своих учеников и велел подать шампанского, сказав, что, конечно, из больницы он не вернётся и что ему хочется со всеми ими проститься.
В больнице (это было так называемое кремлёвское отделение Боткинской больницы) произошли два тяжёлых кровотечения (как будто подтвердивших диагноз, к которому, наконец, пришли врачи). Состояние больного резко ухудшилось и, пробыв в больнице всего несколько дней, К. Н. Игумнов скончался 28 марта 1948 г. Но правильный диагноз его заболевания был поставлен лишь при вскрытии. К. Н. Игумнов умер от милиарного туберкулёза. На похоронах Игумнова я не присутствовал (был в это время болен). Но некоторое время спустя я был на нескольких посвящённых его памяти прекрасных концертах. Несколько лет позже, за ужином у Алихановых я сидел однажды рядом с другим нашим великим пианистом Г. Г. Нейгаузом, и разговор у нас зашёл об Игумнове. Я рассказал Нейгаузу, что спросил
В марте 1943 г. на некоторое время из-под Сталинграда был откомандирован в Москву Ю. М. Смирнов — тогда просто Юра. Он стал постоянно бывать в Комаровке и глубоко и прочно вошёл в нашу с А. Н. Колмогоровым комаровскую жизнь. Юра впервые появился в Комаровке ещё поздней осенью 1940 г. и часто бывал у нас в течение всего первого полугодия 1941 г. Он был тогда студентом механико-математического факультета Московского университета и избрал сначала своей специальностью астрономию, и смастерил себе даже достаточно хороший самодельный телескоп. Кроме того, он был радиолюбителем высокого класса, что сыграло вскоре большую роль, когда Юру призвали в армию. Но произошло это лишь в конце 1941 г., а до того Юра в сентябре и первой половине октября был ещё просто студентом, усердно и с успехом тушившим зажигательные бомбы, сыпавшиеся тогда в довольно большом количестве, в частности, и на обсерваторию Московского университета на Пресне, где Юра проводил много времени по ночам (днём он слушал лекции).
В ночь на 16 октября А. Н. Колмогоров и я, как уже упоминалось, уехали в Казань, а Юра Смирнов очень скоро был взят в армию и направлен в Северный флот в качестве радиста. Там он прослужил довольно долгое время, успев ещё пролежать некоторое время в госпитале, если не ошибаюсь, с воспалением лёгких. Потом он был направлен среди зимы 1942–1943 гг. под Сталинград, также в качестве радиста. Оттуда он и приехал в Москву — как упоминалось, в марте 1943 г.
Всю весну и начало лета 1943 г. он находился по службе в Москве, проводя большую часть свободного времени в Комаровке. Вся эта часть «комаровского» периода в жизни А. Н. Колмогорова и моей несёт на себе печать большого и многообразного участия в ней Ю. Смирнова.
Летом его снова, и снова в качестве радиста, отправили на фронт, на этот раз под Курск, на знаменитую Курскую дугу. Ещё через некоторое время, когда темпы нашего продвижения к победе начали заметно ускоряться и сама победа была уже не за горами, Ю. Смирнова снова откомандировали в Москву в качестве радиста по железнодорожному ведомству. В Москве, или лучше сказать, в Комаровке, Ю. Смирнов стал серьёзно заниматься математикой, сменившей астрономию как предмет его научных интересов. 267 Первая научная работа Ю. М. Смирнова, совместная с А. А. Петровым, имела вычислительно-алгебраический характер, относилась к теории вероятностей и была сделана под руководством А. Н. Колмогорова, который настойчиво и серьёзно надеялся увлечь Ю. Смирнова в область прикладной математики в широком смысле слова, считая, между прочим, что признанная квалификация Ю. Смирнова как радиста самого высокого ранга благоприятствует такому развитию его научных интересов. Но Ю. Смирнова потянуло в сторону абстрактной математики, он сделался топологом и скоро стал видным представителем московской школы общей топологии. Вместе с тем Ю. Смирнов стал и первым представителем второго поколения моих учеников, состоящего из него, из О. В. Локуциевского и К. А. Ситникова, каждый из которых пополнил топологию первоклассными научными результатами.
Имея в виду большую и продуктивную научную активность Ю. М. Смирнова, к весне 1945 г. уже бесспорную и вполне определившуюся, Андрей Николаевич Колмогоров и я в середине мая 1945, т.е. уже после победы СССР в Отечественной войне, решили предпринять шаги к демобилизации Ю. М. Смирнова. С этой целью мы посетили А. Н. Крылова и попросили его совета. Алексей Николаевич очень благосклонно принял нас и тут же написал письмо соответствующего содержания Наркому Военно-Морского Флота. Это письмо Наркому отвёз и передал ему лично Андрей Николаевич. В результате последовал приказ наркома по военно-морскому флоту: Краснофлотца Смирнова Ю. М. демобилизовать и направить в распоряжение члена-корреспондента Академии наук П. С. Александрова для научной работы. Копия этого приказа, отправленная мне, до сих пор хранится у меня, а портрет А. Н. Крылова висит в столовой комаровского дома, рядом с портретами Д. Ф. Егорова и К. Н. Игумнова.
Две первые послевоенные зимы 1945–1946 и 1946–1947 годов я писал сначала работу о размерности нормальных пространств, а затем мою большую работу о законах двойственности для незамкнутых множеств (Математический сборник). Эта работа полностью поглотила меня, как ранее «казанская» работа, а ещё ранее «Gestalt und Lage» и «Dimensionstheorie». Недаром эти четыре работы я считаю своими лучшими работами в общей гомологической топологии. По инициативе Л. С. Понтрягина я сделал большой доклад о двойственности незамкнутых множеств на общем собрании отделения физико-математических наук (академиком-секретарём отделения был в то время А. Ф. Иоффе). Лев Семёнович сказал мне тогда, что считает эту работу и работу по гомологической теории размерности моими лучшими работами, и это очень обрадовало меня. Мне и самому нравилась новая работа, и хотя я очень устал от длительного процесса её написания, я находился в состоянии большого подъёма, такого же, как пять лет тому назад по окончании «казанской» работы.
Научная работа не была равномерно развивавшимся в течение моей жизни непрерывным процессом: она осуществлялась несколькими бывшими в моей жизни большими подъёмами, как бы пиками, между которыми лежали периоды по существу пассивные. Эти подъёмы научной активности, сопровождавшиеся осуществлением работ, представляющимися мне наиболее значительными из сделанных мною, совпадали у меня и с общими эмоциональными подъёмами моей жизни. Это были:
Эту работу я считаю своей последней значительной работой. Будучи последним большим подъёмом моей собственной математической активности, она к счастью не была последним подъёмом моей жизненной активности вообще. Но в дальнейшем мои общежизненные подъёмы вкладывались уже не в мои собственные работы, а в радость, вызванную работами моих учеников, последние два раза — работами В. И. Зайцева и Е. В. Щепина.
Итак, была самая пора, чтобы у меня появился новый ученик, и им стал в 1948 г. Кирилл Александрович Ситников (Кира). Он был ещё студентом. Его блестящие математические способности обнаружились в первых его работах (о затухающих отображениях, так называемая работа о мешках и скоро последовавшая за нею работа о поясах). Эти работы, из которых первая стала потом кандидатской диссертацией, я считаю самыми яркими достижениями того времени в топологии компактов и в частности, в гомологический теории размерности. В этих работах со всей силой обнаружился яркий геометрический талант Ситникова.
Его личность, вообще сложная и, я бы сказал, довольно дисгармоничная, обладала и своеобразным обаянием. В целом я очень обрадовался тому, что К. Ситников стал моим учеником. Андрею Николаевичу он тоже понравился, и во второй половине лета 1948 г. мы предложили К. Ситникову поехать с нами на Волгу, в Калязин, имея в виду там хорошо поплавать и погрести на лодке. Кира, природный волжанин (уроженец города Горького), охотно согласился на наше предложение, и наша поездка состоялась. Мы пробыли в Калязине около месяца. Вместе с нами по приглашению А. Н. Колмогорова там был и однокурсник К. Ситникова Ю. В. Прохоров, оказавшийся тоже очень способным математиком, с успехом занимавшимся под руководством А. Н. Колмогорова теорией вероятностей. Впоследствии Ю. В. Прохоров стал, как известно, академиком. Ю. В. Прохоров принимал участие и в наших лодочных прогулках, занимавших большую часть нашего времени и в Калязине. В целом и в частностях всё наше путешествие оказалось очень удачным и доставило много удовольствия всем его участникам.
После работ по топологии компактов К. Ситников доказал свой замечательный закон двойственности для незамкнутых множеств, продвинувшись здесь значительно дальше меня. Кроме того, он по существу положил начало гомологической теории размерности незамкнутых множеств, доказав в этой области фундаментальную теорему и построив очень интересные примеры. Эта работа стала его докторской диссертацией. Однако блестящая деятельность К. А. Ситникова в области топологии продолжалась всего
К. Ситников на ряд лет сделался постоянным участником комаровского дома.
Приблизительно одновременно с Ситниковым начал работать в области топологии и О. В. Локуциевский, построивший в 1948 г. свой знаменитый пример бикомпакта с несовпадающими размерностями (индуктивной и лебеговой). Ю. М. Смирнов успешно продолжал ранее начатую продуктивную работу в топологии, приведшую его к ныне классической метризационной теореме (теорема Бинга–Нагата–Смирнова), составившей его блестящую 269 кандидатскую диссертацию, а затем к построению теории пространств близости (ставшей его докторской диссертацией). В настоящее время построенная Ю. М. Смирновым теория пространств близости вместе с теорией равномерных структур Андре Вейля собственно и составляет равномерную топологию, зачатки которой восходят ещё к началу XX столетия.
Осенью 1953 г. коллектив под названием «Комаровский дом» пополнился ещё одним сочленом, до сих пор поддерживающим с ним самую тесную связь. Это был Володя (ныне профессор Владимир Иванович Пономарёв), которому тогда ещё шёл семнадцатый год. Вполне выдержав вступительное испытание, состоявшее в купании в уже очень холодной осенней Клязьме, Володя стал постоянно бывать в Комаровке. Он был десятиклассником и ещё не выбрал себе дальнейшего пути. Его учитель математики, в общем вовсе не плохой, говорил ему, что математика из него во всяком случае не выйдет и никак не советовал ему избирать этот тернистый путь. Тем не менее я, когда учебный 1953–1954 год стал приближаться к концу, однажды завёл с Володей серьёзный математический разговор, вполне остававшийся в пределах тогдашних программ средней школы, но касавшийся таких деликатных материй, как бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, равновеликость пирамид (так называемая чёртова лестница)
К той же возрастной категории, что и третье поколение моих учеников, относится и Аркадий Анатольевич Мальцев
Б. Пасынков, А. Архангельский и В. Пономарёв последовательно защищают свои докторские диссертации в 1964–1966 гг. Всем им в момент защиты ещё не было и по 30 лет. Каждая из этих диссертаций представляла собою серьёзный вклад в общую топологию, а их защиты одна за другой составили в их совокупности значительное явление в жизни Московской топологической школы.
В самом начале 60-х годов эта школа пополнилась ещё двумя сочленами: учеником А. В. Архангельского В. В. Филипповым и В. В. Федорчуком. 270 Федорчук стал быстро расти как математик, получал один за другим хорошие результаты, защитил сначала кандидатскую, а потом докторскую диссертации и на год поехал в Англию, к Даукеру, где его результаты имели заслуженный успех. К этому же времени вырос и ученик Архангельского В. В. Филиппов и защитил докторскую диссертацию, содержавшую блестящие результаты по теории размерности. Свои ученики, студенты и аспиранты с хорошими самостоятельными работами, имеются также у Пасынкова, Пономарёва и Федорчука, а в последнее время и у Филиппова. Весь этот коллектив молодых математиков образует серьёзный центр топологических исследований, по справедливости получивший большое международное признание.
Что касается меня лично, то ещё раз скажу, что моей последней действительно значительной работой была моя работа 1947 г. о законах двойственности для незамкнутых множеств. После этого я написал только работу по метризации топологических пространств, содержащую новый и неожиданный подход к этой старой проблеме и этим представляющей быть может некоторый интерес. Подход этот был продолжен и доведён до полного завершения А. В. Архангельским. Кроме того, я написал три работы совместно с Пономарёвым, в которых, однако, был только, так сказать, режиссёром: основные математические идеи в этих работах принадлежат В. Пономарёву. По окончании своей собственно математической деятельности я написал несколько (как мне кажется хороших) обзорных статей, последняя из которых, недавно вышедшая в соавторстве с В. В. Федорчуком под заглавием «Основные моменты в развитии теоретико-множественной топологии», содержит, в частности, довольно обстоятельный обзор основных результатов моих названных выше учеников.
В 1963 г. моим учеником делается В. И. Зайцев (Витя), скоро начинающий получать первоклассные математические результаты, также изложенные в моём, совместном с Федорчуком обзоре. Некоторые из самых основных результатов моих учеников А. В. Архангельского, В. И. Пономарёва и В. И. Зайцева, а также, конечно, метризационная теорема Нагата–Смирнова вошли в мой учебник «Введение в теорию множеств и общую топологию». Результаты московских топологов по теории размерности изложены в книге «Введение в теорию размерности», совместно написанную Б. А. Пасынковым и мною.
Здесь, после того как я довольно много сказал о своих учениках разных поколений, мне кажется уместным коснуться вопроса о том, какой мне представляется в целом проблема взаимоотношений между учителем и учеником,— вопроса и живого, и интересного.
Во взаимоотношениях между учеником и учителем всегда имеет место влияние второго на первого, что и обусловливает асимметрический характер этих взаимоотношений. Учитель влияет на ученика, ученик воспринимает это влияние и в той или иной степени подчиняется ему. Вопрос в том, насколько сильно и какую эмоциональную окраску имеет это подчинение, насколько оно затрагивает границы личности ученика, внутреннюю свободу этой личности. Как сложатся отношения между учеником и учителем, насколько легко и благополучно разрешатся вопросы, которые будут возникать ло ходу этих отношений, зависит от характеров вступивших в соприкосновение людей: от того, насколько волевой и активной в отношении к другим людям является личность учителя, насколько императивно то влияние, которое он оказывает или стремится оказывать на своего ученика; от того, хочет ли он действительно подчинить себе волю и личность своего ученика, или, напротив, стремится бережно относиться к индивидуальности ученика, желая помогать её раскрытию, а не подавлять её. Не менее важное значение имеет, конечно, и характер ученика: насколько он открыт для благожелательного влияния на него (лишь о таком влиянии, конечно, и имеет смысл 271 говорить). Или же ученик, имея в свою очередь ярко выраженный волевой характер, прежде всего стремится с самого начала устранить самую угрозу
У Гильберта было много учеников, ставших выдающимися математиками, но они, сделавшись таковыми, никогда не переставали считать себя учениками Гильберта. Среди них я знал Каратеодори, Гекке, Хеллингера, Дена и многих других. Но среди всех учеников Гильберта самым близким ему был и до конца своей жизни оставался Курант, бывший и вообще самым близким другом Гильберта во вторую половину его жизни. Когда после гитлеровского переворота Курант должен был уехать из Германии, Гильберт тяжело воспринял эту утрату действительно близкого ему человека, утрату вдвойне тяжёлую потому, что она произошла на фоне катастрофического развития событий в его родной стране, с которыми Гильберт никогда не мог примириться.
Много учеников, ставших затем видными советскими математиками, образовавшими первое поколение советской московской математической школы, было у Д. Ф. Егорова. Среди них назову в первую очередь Н. Н. Лузина, В. В. Голубева, В. В. Степанова, И. И. Привалова и значительно более молодого И. Г. Петровского. Все они были и всегда считали себя учениками Д. Ф. Егорова. Характер Д. Ф. Егорова, человека исключительной моральной высоты, обладавшего редким чувством долга и редким чувством ответственности, отличался и большой эмоциональной сдержанностью, даже некоторой внешней суровостью. Не удивительно, что он имел исключительный, я бы сказал, абсолютный авторитет у своих учеников, отношения его с ними не были омрачены никакими конфликтами. Большая сдержанность этих отношений не исключала их внутренней эмоциональности. Мне пришлось 272 ознакомиться (благодаря
Ученики Д. Ф. Егорова относились к своему учителю не только с большим уважением, но и с большой любовью, и так относились к Д. Ф. Егорову не только его непосредственные ученики, но и молодые математики, ученики Н. Н. Лузина, составившие знаменитую, вошедшую в историю московской математики «Лузитанию».
Лузитания считалась «орденом», «командором» которого был Н. Н. Лузин, а «гроссмейстером» — Д. Ф. Егоров. Лузитания была действительно уникальным и неповторимым коллективом молодёжи, жившей не только напряжённой, насыщенной математической жизнью, но и жизнью, которая была непосредственно радостной и весёлой. Такой коллектив мог возникнуть лишь в самые первые годы революции, когда вся страна переживала единственный в истории, неповторимый подъём во всех областях своей жизни. Весёлые и необыкновенно оживлённые лузитанские собрания, на которых, кстати сказать, не было ни капли вина, происходили при непременном участии учителей всей этой молодёжи — Д. Ф. Егорова и Н. Н. Лузина, и это говорит о том, насколько простыми и непринуждёнными могут быть отношения между учителем и его учениками.
Хочу сказать несколько слов ещё об одном математическом коллективе, близко знакомом мне и состоявшем из учеников одного учителя: это коллектив учеников выдающейся гёттингенской алгебраистки Эмми Нётер. По своей наружности Эмми Нётер не отличалась женственностью, но женственность была присуща её натуре и выражалась в том сильном материнском чувстве, которым она обладала. Эмми Нётер своих детей не имела, и её материнское чувство выражалось в её отношении к её ученикам. Я не знаю другого случая, когда бы учитель проявлял такую заботу и такую, прямо скажу, нежную любовь, какую Эмми Нётер имела к своим ученикам. Вообще я думаю, что в отношениях между учителем и учеником большинство составляют «благополучные», бесконфликтные случаи. Но наибольший интерес для нас представляют и не случаи полного благополучия, и не редкие случаи крайнего неблагополучия, а расположенные, так сказать, между ними случаи тех или иных психологических осложнений, в конце концов находящие благополучное разрешение. Наиболее заслуживает по моему мнению внимания то положение вещей, когда с одной стороны имеется отношение учителя к ученику не только благожелательное, но и щадящее и внимательное к его личности и его самолюбию, когда, с другой стороны, и личность ученика благожелательно открыта по отношению к влиянию со стороны учителя, и тем не менее в отношениях между ними возникают осложнения. Возможная природа этих последних представляется мне следующей: ученик добровольно подчиняется учителю, учитель без всякого грубого нажима, но тем не менее постепенно подчиняет себе личность ученика. В результате этого медленного и незаметного для обеих сторон процесса некоторая часть личности ученика, его взгляды, вкусы, стремления оказываются как бы «замещёнными» соответствующими частями личности учителя, и в некоторый момент ученик замечает эту происшедшую замену: он начинает чувствовать, что некоторые его взгляды, вкусы, желания уже не его, а по существу принадлежат учителю и в психологии ученика являются
Скажу в заключение несколько слов о моём собственном опыте ученика. В университете как студент, рано захотевший серьёзно заниматься математикой, я сделался учеником Н. Н. Лузина и сразу попал под обаяние его научного и исключительного педагогического таланта. С другой стороны, и Лузин скоро включил меня в число самых близких своих учеников и многого ждал от меня в математическом отношении. Всё шло как нельзя лучше и в математическом и в человеческом отношении, пока, после первых и серьёзных математических удач, меня не постигла катастрофическая научная неудача
Моим учителем математики в средней школе (в гимназии) был Александр Романович Эйгес, и ему я обязан тем, что вообще стал математиком. Влияние A. Р. Эйгеса на мою только начинавшую формироваться юношескую психологию стало распространяться на всё новые и новые её области. В частности, влияние А. Р. Эйгеса было чрезвычайно сильным и в области моих литературных, а позже и философских интересов. Та «реакция замещения», о которой я говорил выше, вступила — и в большом объёме — в силу, но она ни к каким «конфликтным ситуациям» не привела. С течением времени мои отношения с А. Р. Эйгесом всё более принимали характер глубокой и искренней дружбы и сохранили этот характер до самой смерти А. Р. Эйгеса (1944 г.).
Снова вернусь к комаровскому дому. Он включал в себя не только моих учеников, но в неменьшей степени и учеников Андрея Николаевича Колмогорова. Их много, и я могу здесь назвать только некоторых из них, отдавая преимущество тем, с которыми и у меня установились непосредственные (не только через Колмогорова) дружеские отношения: это прежде всего старший по возрасту Борис Владимирович Гнеденко и существенно младшие Владимир Андреевич Успенский, Владимир Михайлович Тихомиров, Альберт Николаевич Ширяев.
В числе наиболее выдающихся математиков — учеников А. Н. Колмогорова необходимо назвать также В. И. Арнольда и Я. Г. Синая, много раз бывавших в Комаровке. Короткое время, но часто, бывал в Комаровке B. Засухин, погибший в первый же год войны. К младшему поколению учеников Андрея Николаевича принадлежит Игорь Журбенко, который проделал с ним в 1971 г. кругосветное путешествие. С Игорем и я очень подружился, он и сейчас часто бывает у меня в Москве. Запомнился мне один ослепительно солнечный мартовский день в Комаровке, должно быть 274 году в 1965 или около этого, когда Витя Зайцев и Игорь Журбенко в одних трусиках счищали (и с полным успехом счистили) снег со всего комаровского дома. Можно было удивляться той лёгкости, с которой они подымали большие пласты частично обледеневшего плотного снега и, стоя на самом краю крыши, сбрасывали их вниз.
Когда по инициативе и под руководством Колмогорова была основана и достигла большого процветания физико-математическая школа-интернат при Московском университете, школьники-интернатовцы иногда с некоторыми из их молодых «наставников» приходили в Комаровку и вместе с хозяевами дома отправлялись в большие лыжные прогулки. Лыжные прогулки были постоянной традицией комаровского дома. В них бывало и совсем помалу, и помногу участников разных возрастов. В первые послевоенные годы А. Н. Колмогоров и я, с привлечением разных лиц (в том числе Ю. Смирнова, Ю. Прохорова, К. Ситникова, А. А. Петрова
Что касается собственно «топологических» прогулочно-спортивных мероприятий, то прежде всего надо вспомнить так называемые топологические прогулки. Их постоянными участниками были Архангельский, Пасынков, Пономарёв, Федорчук, Илиадис, а переменными — все желающие участники нашего топологического семинара с широким правом кооптации. Вся эта большая компания с моим участием отправлялась в течение многих лет на Тишковское водохранилище, а потом, когда я стал старше, на Фрязинское озеро. В этом последнем варианте к нам иногда из Комаровки на некоторое время присоединялся А. Н. Колмогоров. Выбрав хорошее место на берегу воды (условием было наличие площадки для футбола, а также места для костра), мы проводили на нём целый день — с утра и до вечера. Сама «прогулка» состояла из: бесконечного купанья, столь же бесконечного футбола, катанья на лодках (особенно интересного в Тишкове) и продолжительной трапезы за костром. Эти виды деятельности без труда заполняли весь день, и все возвращались домой обычно поздно вечером, всегда очень довольные.
В середине 1960-х годов топологи выбирались три или четыре раза на Верхнюю Волгу (недалеко от Окатова) и проводили там примерно месяц, снимая
Вспоминаю и пребывания на море. Это были: мои поездки с Володей Пономарёвым в Геленджик в 1955, 1956, 1957 гг. с пребыванием в течение месяца или около того в санатории (вернее, доме отдыха) Московского университета. Один или два раза там вместе с нами был и Е. Ф. Мищенко. Там отдыхало много студентов, и была в соответствии с этим хорошая (часто лучшая во всем Геленджике) волейбольная команда. Кроме того, я «арендовал» там целый «флот» (кажется, из трёх лодок или четырёх), находившийся 275 в моём постоянном пользовании, и организовывал лодочные плавания в геленджикской бухте и с разрешения, полученного у пограничников, даже слегка за её пределами (так, однажды мы доплыли даже до так называемой Голубой бухты). Главными же были огромные заплывы с большим числом участников (среди которых всегда были Володя Пономарёв и я). Заплывы эти устраивались с соблюдением всех правил безопасности: команду пловцов сопровождали две лодки, одна впереди, другая в хвосте. Ни одного несчастного случая за всё время не было.
Осенью 1958 г. Архангельский, Пасынков, Пономарёв и я провели месяц в Новом Афоне. К нам там присоединился и Алёша Чернавский, однокурсник названных выше, ученик Л. В. Келдыш, занимавшийся под её руководством геометрической топологией. В Новом Афоне участники нашей компании не только плавали и играли в волейбол: мы поочереди читали вслух Гофмана («Повелителя блох» и другие вещи), а я прочёл вслух ещё и «Евгения Онегина». Много раз я ездил на море с Витей Зайцевым. Мы три раза проводили вместе летний отпуск в Ниде (Литва) на Балтийском море, одно лето провели в Паланге и одно в Новом Афоне на Чёрном море.
В середине шестидесятых годов топологическая жизнь нашей страны пополнилась новым начинанием, оказавшимся интересным, живым и плодотворным. Это — так называемые Тираспольские симпозиумы по общей топологии и её приложениям, систематически происходящие в городе Тирасполе (Молдавия) с периодичностью в
Тираспольские симпозиумы стали в полном смысле слова всесоюзным начинанием, привлекающим математиков, главным образом молодых, со всех концов нашей страны. Большая заслуга быть инициатором и неутомимым организатором этих симпозиумов принадлежит Петру Кузьмичу Осматеску, ныне профессору Кишинёвского политехнического института.
Выходец из молдавской рабочей семьи, П. К. Осматеску прошёл математическую аспирантуру в Московском университете под руководством Л. В. Келдыш, но самостоятельную научную работу в общей топологии начал под руководством А. В. Архангельского и является в полной мере его учеником.
Мне пришлось быть два раза участником Тираспольского симпозиума, последний раз в 1969 г. Оба раза я сохранил о своём участии в этом симпозиуме самые лучшие воспоминания, несмотря на то, что моё пребывание в Тирасполе в 1969 г. оказалось связанным с приключением, не очень приятном, о котором и скажу сейчас несколько слов.
Последний день моего пребывания в Тираспольском лагере был воскресный день в самом конце августа. Купаясь во второй половине дня в Днестре, я вдруг заметил, что на меня на полном ходу налетает моторная лодка. Я уже испытал мгновение первого прикосновения к моей спине её носовой части и в какую-то долю секунды ясно понял, что через мгновение на мою голову обрушится её кормовая часть всем ударом своего тяжёлого металлического винта. Моя мысль работала с поразительной отчётливостью, а время её работы исчислялось буквально мгновениями. Тем не менее я ясно помню, как в моём мозгу промелькнула легенда о пророке Мохаммеде, который семь раз облетел вокруг света за время, за которое из опрокинутого кувшина выливается вода. Я также ясно понимал, что если в ближайшее мгновение я ничего не сделаю, то тогда же кончится моя жизнь. Я резким движением нырнул вниз головою так глубоко, что коснулся ею дна реки. В то же мгновение я почувствовал удар винта лодки в самом низу спины. 276 Затем я ощутил острую боль и понял, что я жив. Через минуту около меня уже был Витя Зайцев, который сразу принялся буксировать меня к берегу; я сам мог лишь слегка помогать ему в этом, совершая плавательные движения руками. Ногами я плыть совсем не мог
В тираспольской больнице я пробыл ночь и значительную часть следующего дня. Затем меня перевели в кишинёвскую больницу, так называемого
К сожалению в течение этого кишинёвского времени у Вити появились первые признаки того аллергического насморка, который через год переродился в тяжёлое заболевание бронхиальной астмой.
Летом 1970 г. Витя Зайцев защитил свою кандидатскую диссертацию, основные результаты которой составляют содержание его большой, очень интересной работы, опубликованной в «Трудах Московского Математического Общества». К сожалению, на защиту своей диссертации Витя пришёл совсем больной и с трудом мог произнести свою диссертационную речь, пользуясь микрофоном: к этому времени у него была уже в тяжёлой форме бронхиальная астма. Болезнь эта не оставляет его и поныне, несмотря на самые энергичные попытки лечения в больницах и санаториях.
В 1968–1969 гг. мы с Витей Зайцевым объявили семинар по топологии для студентов первого и второго курсов. На этом семинаре сразу выделились своими яркими математическими способностями два студента (оба, между прочим, бывшие интернатовцы-одноклассники): Паша Курчанов и Женя Щепин. Курчанов скоро перешёл в алгебру и стал заниматься у Ю. И. Манина. Женя Щепин продолжал заниматься топологией и сделал одну за другой ряд действительно замечательных работ
Самые первые работы Щепина касались, с одной стороны, проекционных спектров, с другой стороны, так называемых пространств, близких к нормальным, и примыкали к работам В. Зайцева. Дальше Щепин быстро пошёл своей собственной и вдаль ведущей широкой математической дорогой.
Витя Зайцев и Женя Щепин — два моих самых последних и может быть отчасти поэтому самых дорогих и самых близких мне ученика. Именно им я больше всего обязан тем, что глубокая и в значительной степени беспомощная старость, которой я достиг, при всей своей неизбежной горечи, всё же не является ещё той старостью, которой так боялся Гоголь, когда говорил, что ничего нельзя прочесть на хладных, бесчувственных чертах бесчеловечной старости.
Я уже упоминал, что поступал в университет с тем, чтобы после его окончания посвятить себя педагогической деятельности в средней школе, стать учителем математики в гимназии. Жизнь моя сложилась так, что в средней школе я почти не преподавал, а в высшей, именно в Московском университете, проработал практически всю жизнь, объединяя педагогическую деятельность по мере сил с научной. С течением времени из этих двух компонент (педагогической и научной) первая приобретала в моей жизни всё бо́льший удельный вес и в конце концов, примерно с возникновением третьего поколения моих учеников (и даже немного раньше), целиком заполнила мою жизнь. Моя научная работа всегда питалась эмоциональным содержанием моей жизни, а это последнее стало создаваться по существу всецело моими учениками. И вот теперь я благодарю их всех за всё, что они внесли в мою жизнь, и прежде всего и больше всего за то, что они существовали и существуют. 278
| 1. | Этот том озаглавлен: «Теория размерности и статьи общего характера», М., «Наука», 1979. назад к тексту |
| 2. | Эта речь опубликована в УМН, вып. II (1936) и перепечатана в упомянутом на стр. 234 втором томе моих сочинений, а также в журнале «Математика в школе» |
| 3. | Море прекраснее соборов (Верлен). назад к тексту |
| 4. | Чего Вы желаете, чтобы я делал с трупом? (франц.) назад к тексту |
| 5. | Позовите меня, куда Вы хотите. (франц.) назад к тексту |
| 6. | Русский перевод этого доклада опубликован в УМН, 1972, т. 27, № 1, |
| 7. | К 1864 г. относится фактическое начало деятельности математического общества; его юридическое оформление произошло только в 1867 г. Отсюда и расхождение в датах юбилеев Общества. назад к тексту |
| источник: журнал "Советское фото" N 8 (1974). |
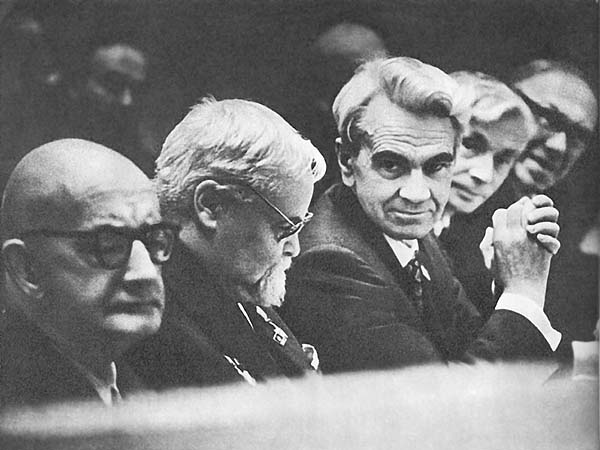 В Доме учёных (П. С. Александров, А. Н. Тихонов, |